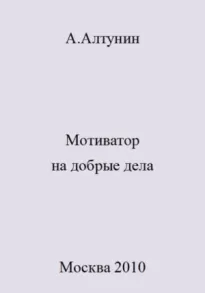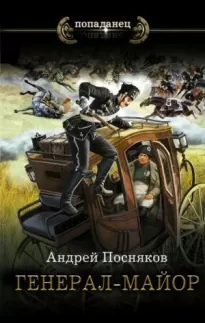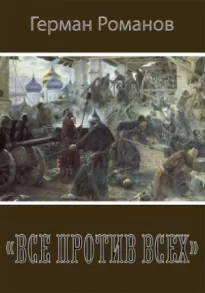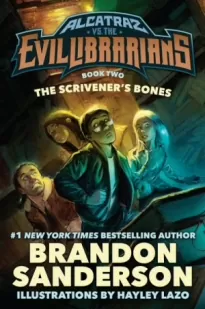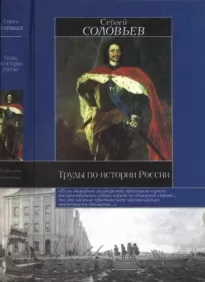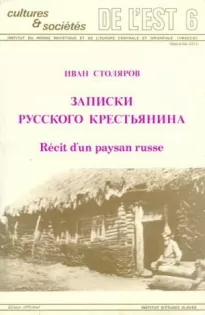Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры
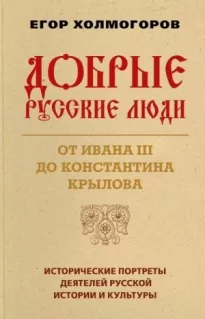
- Автор: Егор Холмогоров
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"
«Департамент Каткова» во главе Империи
После подавления Польского мятежа М. Н. Катков, не занимавший никогда никаких официальных постов, кроме незначительного в табели о рангах и нужного для проформы поста чиновника для особых поручений при Министре просвещения, прежде всего — публицист и издатель, превращается в политическую фигуру первой величины. Впервые не только в русской, но и в мировой истории публицист становится важнее большинства министров.
Однако за этот статус Каткову пришлось побороться. Многие влиятельные сановники, особенно министр внутренних дел Петр Валуев, пытались подчинить Каткова себе, превратить в свою марионетку. Для Михаила Никифоровича это было категорически неприемлемо — для него не было ничего важнее принципа и Дела, то есть величия России, русского государства. Он не собирался превращаться ни в чью пешку и решительно шел на конфликт. Его не случайно прозвали «бешеным» — он с яростью обрушивался на вчерашних союзников, если расходился с ними по какому-то существенному вопросу. Если дело доходило до «линии», то перечить Каткову было нельзя.
П. Валуев был типичным представителем идеологии «дворянской» солидарности против других сословий. Он всеми мерами пытался ограничить наступление на права нерусского дворянства в Польше, Западном крае и Прибалтике. Сословный вопрос казался ему важнее национального. И Катков развязал против Валуева войну, намекая в своих статьях на сторонников «конфедерализации» России в самых верхах правительства. Газета получила предупреждение. Катков отказался его печатать. Валуев готовит второе предупреждение. Но 4 апреля 1866 года в Государя Александра II стреляет нигилист Д. Каракозов. Союзник П. Валуева министр просвещения А. Головнин уходит в отставку, а сам министр внутренних дел Валуев теряет часть своего престижа. Патриотические манифестации москвичей по поводу спасения государя неизменно заканчиваются у редакции «Русского Вестника» на Страстном бульваре. Все знают, кто является подлинным вождем «русской партии».
О роли Москвы в становлении Каткова надо сказать особо. При нем Москва возвращает себе роль духовной, смысловой и частично политической столицы России. Впрочем, лучше В. В. Розанова не скажешь: «Катков жил вне Петербурга, не у „дел“, вдали, в Москве. И он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти „петербургские должности“, не исполняющие или худо исполняющие „свою должность“. Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это — единство и величие России. Ну, — и самогласность Руси: без этого такие железные дела не делаются. Хозяин „крутенек“, да зато — „порядок есть“. У „слабого“ же, у „богомольного“, у благодушного хозяина — „дела шатаются“, и, наконец, всё „разваливается“, рушится, обращается в ничто.
Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия „текущих дел“, — от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов, могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во „властных сферах“, боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России, боялись в себе эгоизма, „своей корысти“. И — того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы „инспекция всероссийской службы“, и этой инспекции все боялись, естественно, все её смущались. И — ненавидели, клеветали на неё».
Однако атака Валуева продолжается, несмотря на все попытки «русской партии» его остановить. Второе предупреждение. Третье. 12 мая 1866 года газета закрыта. М. Катков от редакторства устранен. Временным редактором удается назначить профессора физики и близкого соратника Каткова Н. А. Любимова. Катков пишет Государю. Тот, будучи в Москве 20 июня 1866 года принимает Михаила Никифоровича и говорит ему «Я тебя знаю, верю тебе, считаю своим… Сохрани тот священный огонь, который есть в тебе». Несмотря свои уступки либеральной петербургской бюрократии Александр II ценит Каткова. В каком-то смысле влияние Каткова при нём было даже сильнее, чем при консервативном Александре III. Для Государя независимый от бюрократии идеологический центр Каткова в Москве оказывается жизненно необходим и он готов постепенно усиливать его влияние.
25 июня 1866 года Катков возвращается к редактированию «Московских ведомостей». Теперь ему даровано право обращаться с докладными записками и письмами непосредственно к императору. С этого времени окончательно складывается «катковская» партия, членами которой становятся и многие чиновники. М. Катков усиленно проводит своих людей на важные посты в сфере просвещения, цензуры, внутренних дел. «Были министерства, — отмечал К. Победоносцев, — в коих ничего важного не предпринималось без участия Каткова». Впрочем, главным оружием Каткова, по-прежнему оставалось именно слово публициста и дело общественного деятеля; конспирологические теории придумывались в основном либералами, чтобы как-то объяснить его неуязвимость и влияние.
М. Н. Катков смело ругал бюрократию и никогда не боялся быть «на ножах» с влиятельными либеральными бюрократами. Он охотно рассуждал о народных общественных силах, так же, как это делали и славянофилы. Но если те искренне верили в необходимость отдать «земле — силу мнения», то Катков всегда был убежден, что только государство способно, тем более в России, сделать что-то стоящее и результативное.
Любая «общественность» непременно превратится в говорильню, причём, как правило, в говорильню противогосударственную. Метафизика Каткова предполагает, что совокупность частных интересов и «притяжений» может удерживать вещи и людей вместе, но чисто в пассивном состоянии, для активного же движения нужна высшая идея, которую он и видел в самодержавном государстве.
М. Катков, что бы он ни утверждал публично, на деле никогда не отождествлял самодержавие лично с царем. Неприязненно он относился к аристократии, ощущая в ней космополитический центростремительный дух, противоположный национальному. Полемизируя с «консервативным» направлением аристократической газеты «Весть», защищавшей сословную солидарность русского и польского дворянства, он гневно писал: «Если национальный характер государства ослабеет, то ослабеет и его единство… В России может быть только русское землевладение и русское дворянство, и русское дворянство отнюдь не может вступать в солидарность во имя отвлеченных интересов, с каким бы то ни было антирусским дворянством».
Еще меньше государственного Катков видел в либеральничающей интеллигенции. Эта интеллигенция для него — иностранное по своей сути явление. Его слова и сегодня звучат как приговор всем патриотам заграницы:
«Наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Европейские державы, напротив, только заботятся о своих интересах и немало не думают о Европе. В этом-то и полагается всё отличие цивилизованной страны от варварской. Европейская держава, значит, умная держава, и такая не пожертвует ни одним мушкетером, ни одним пфеннигом ради абстракции, именуемой Европой. Никакая истинно европейская дипломатия не поставит себе задачей служить проводником чужих интересов в делах своей страны. Наше варварство заключается не в необразованности наших народных масс: массы везде массы, но мы можем с полным убеждением и с чувством достоинства признать, что нигде в народе нет столько духа и силы веры, как в нашем, а это уже не варварство… Нет, наше варварство — в нашей иностранной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках».
Подлинным сосредоточением политического идеала Каткова является народ, нация, как совокупность не только живущих сейчас, но и всех прежде ушедших и будущих поколений.
«Народ — не стадо голов и не сумма голосов; он также не в одних только ныне живущих людях. В народе живет его прошедшее, в народе живет его будущее. Не в случайном настроении хотя бы миллионов людей, живущих на территории государства, не в сумме праздных да или нет, как бы ни была она громадна, заключается судьба государственной области, а в той действительной силе, которая определяет и держит её».
Будем честны: Катков видел одушевляющим русское самодержавие логосом и подлинным голосом русской народности именно себя и своих единомышленников, свою партию, а потому упорно и последовательно боролся за расширение своего политического влияния — «назначал» министров, проводил реформы, подавлял конкурентов. Смиренно говоря о себе как о «страже», он, конечно, на самом деле ощущал себя как правящего платоновским государством философа.
И тут нам станет понятна и та фанатическая страстность, с которой он добивался внедрения классического образования в русских гимназиях. Несколько лет Катков потратил на то, чтобы ввести в Российской Империи гимназическое образование, строящееся на изучении древних языков. Нажил себе на этой борьбе немало врагов и неприятелей, подорвал добрые отношения со многими из тех, кто поддерживал его национальную борьбу. Знать греческий и латынь, смочь читать Платона в оригинале — для Каткова значило подготовить к правлению новые поколения молодых русских интеллектуалов.
Катков выдвигает модель классического образования, основанного на изучении древних языков, и сам же воплощает её в жизнь. В 1868 году им и его другом профессором латинской словесности П. М. Леонтьевым основан «Катковский лицей» — одно из элитарнейших учебных заведений тогдашней России. В 1872 году открывается при лицее и Ломоносовская учительская семинария — бесплатная школа для талантливых самородков, пришедших в Москву за знаниями, как некогда мальчик из Холмогор.
Еще раньше, в 1871 году вступает в действие, несмотря на ожесточенное сопротивление либералов, гимназический устав, сформулированный согласно идеям Каткова. Классицизм критиковали во всех ведущих западнических изданиях. Каткова травили как «мракобеса». Светское общество поделилось на два враждебных лагеря. Это было тем страннее, если учесть, что Катков настаивал на введении в России общеевропейской системы классического образования. Системы, которая была долгое время основой рекрутирования учеников Итона, Эколь Нормаль, Оксфорда и Сорбонны. Системы, которая принесла блестящие плоды в виде великолепно образованных русских ученых. Однако либералы, как и сам Михаил Никифорович, полагали, что «катковские» гимназии станут препятствием на пути распространению революционной проповеди. Если не отменят, то хотя бы затормозят проникновение смуты в ряды гимназистов и студенчества. Поэтому война в прессе и в верхах была жестокой.
Главное отличие катковского подхода к образованию от нынешнего в том, что для Каткова обучение в школе — дело серьёзное. Школа — это воспитание ума учащегося, развитие в нём интеллектуальной способности к усвоению всякой серьёзной науки, а не демонстрация «демоверсии» университетской программы, с иллюстрированным популярным пересказом задов позавчерашней науки. Для Каткова — общее образование — это образование у школьника гибкого и развитого ума, а не образование у него поверхностного представления обо «всём вообще» (такой тип образовательной философии, главенствующей у нас, следовало бы именовать скорее «вообще образованием»), поэтому главный враг серьёзного образования, по Каткову, это «многопредметность», это рассеяние ума учащегося по случайно выхваченным вершкам всяких наук, из которого потом выходит такой хаос, который только и способен породить прилежных читателей Фоменко, Бушкова и прочих, слышавших обо всём и обо всём готовых судить.