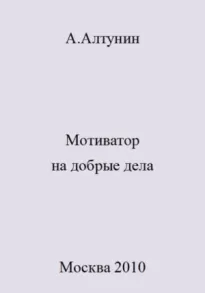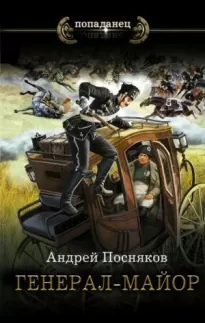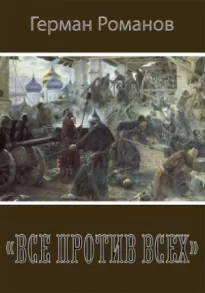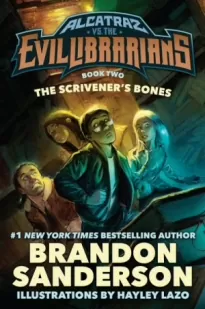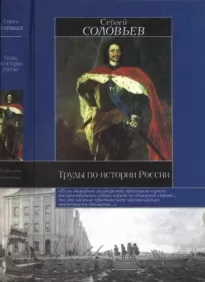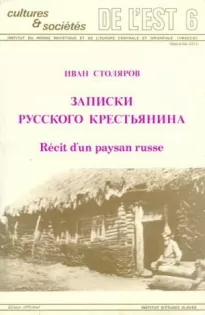Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры
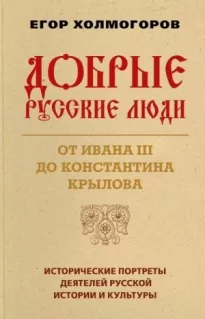
- Автор: Егор Холмогоров
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"
«И портрет моего Государя…»
В этом возвращении много загадочного — с большевиками Гумилёв был совершенно не совместим. К «белым», в Добровольческую армию или к Юденичу он не отправился. Основной причиной, видимо, было то, что у него на руках была большая семья, которую он ещё больше расширил, женившись на Анне Энгельгардт, и у них родилась дочь Елена — обе умерли потом в блокадном Ленинграде.
Гумилёв подчеркивал свой монархизм, истово крестился на каждую церковь, не скрывал своего неприятия большевиков и сыпал язвительными эпиграммами, например такой, на переименование Царского Села:
Не Царское Село — к несчастью,
А Детское Село — ей-ей!
Что ж лучше — жить царей под властью
Или под властью злых детей?
При этом Николай Степанович спокойно работал в советских учреждениях, вроде созданной по инициативе М. Горького «Всемирной литературы», читал лекции поэтам-«пролеткультовцам», дружил с начальником петроградской милиции.
Видимая аполитичность офицера-монархиста Гумилёва кажется слишком демонстративной. Не исключено, что Николай Степанович многое хорошо скрывал. Вновь появляющиеся у него в стихах в это время масонские образы говорят о том, что он ощущал себя принадлежащим к какой-то серьёзной тайной организации, причём явно более значительной, чем группа профессора В. Таганцева, за связь с которой он был в итоге расстрелян.
Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
Возможно, ключевыми для понимания целей Гумилёва являются слова о Новом Иерусалиме. Новый Иерусалим — это не абстрактный апокалиптический образ (тот Иерусалим — Небесный). Новый Иерусалим — это обитель-мечта Патриарха Никона, того патриарха, который осмелился думать о том дне, когда духовная власть на Руси встанет выше светской. Сохранился ответ Гумилёва на вопрос: кто должен встать во главе освобожденной от большевиков России? Патриарх. Скорее всего, именно реализацию этой религиознополитической цели сформулировал или вымечтал себе всегда стремившийся стать рыцарем Гумилёв.
Главным фронтом для Гумилёва была борьба за русское слово, за русскую поэзию. Для этого он собирает вокруг себя кружок молодых поэтов «Звучащая раковина», в котором начинает учить их совершенному поэтическому языку. Эти поэты должны стать альтернативой и обольшевичившейся части символистов (да и среди акмеистов в ренегаты подался С. Городецкий), и горлопану В. Маяковскому, и дубоватым ребятам из «пролеткульта».
Гумилёв увлеченно учит своих последователей писать баллады. Иногда всё было открыто и прямо, как с «Балладой о толченом стекле» любимой ученицы Гумилёва — Ирины Одоевцевой: стихотворение было посвящено красноармейцам, которые, ради веса, подсыпáли в соль, продаваемую ими оголодавшим петроградцам, толчёное стекло.
Солдат пришел к себе домой —
Считает барыши:
«Ну, будем сыты мы с тобой —
И мы, и малыши.
Семь тысяч. Целый капитал.
Мне здорово везло:
Сегодня в соль я подмешал
Толчёное стекло»…
Поел и в чайную пошел,
Что прежде звали «Рай»,
О коммунизме речь повел
И пил советский чай.
Ревнивая Лариса Рейснер написала в советской газете рецензию-донос на эти стихи, что могло закончиться для Ирины Одоевцевой довольно печально. В 1922 году, после расстрела Гумилёва, Одоевцева, вышедшая к тому моменту замуж за Георгия Иванова, уехала заграницу. Она была слишком близка к Гумилёву, многие считали её как бы «литературной вдовой» поэта, почти соперницей Ахматовой, и оставаться в Советской России было просто опасно.
Многие годы спустя, в Париже, Ирина Одоевцева написала изумительную книгу «На берегах Невы». Это не просто воспоминания, в центре которых Гумилёв, хотя, когда исследователи начали проверять приводимые мемуаристкой факты, они поразились тому, насколько цепкая и точная у Одоевцевой память. «На берегах Невы» — это настоящий взволнованный роман о поэзии. Любые романтические мотивы красавица Одоевцева целомудренно оставила за скобками — это произведение не о любви мужчины и женщины, а о двух поэтах: учителе и ученице.
Центральная сцена этой книги — история о том, как Гумилёв повел ученицу отмечать день рождения Лермонтова. Он заказал панихиду по «болярину Михаилу» в Знаменском соборе и простоял всю её на коленях, а потом, поджарив в камине на сабельке сына Левушки кусочки хлеба, произнес долгую взволнованную речь о Лермонтове.
Одоевцева рассказала и детали, которые свидетельствовали об участии Гумилёва в антибольшевистском подполье, что страшно рассердило Ахматову, так как сводило на нет все попытки Анны Андреевны доказать, что Гумилёв ни к чему не был причастен и реабилитировать его в глазах советской власти. Ахматова и создала мемуарам Одоевцевой репутацию легковесной болтовни, но, повторюсь, это совершенно неверно, это одна из великих книг о русской литературе и лучший литературный портрет Гумилёва.
«Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.
Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.
Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.
И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.
Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь ещё никогда не аплодировали.
— А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, „краса и гордость красного флота“, вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в „портрет моего государя“. И заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.
Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилёву было страшно.
— И даже очень страшно, — подтвердил Гумилев. — А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится её. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.
Да, Гумилёв был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, „слух“ о „контрреволюционном выступлении Гумилева“. Встречаясь на улице, два гражданина из „недорезанных“ шептали друг другу, пугливо оглядываясь:
— Слыхали? Гумилёв-то! Так и заявил матросне с эстрады: „Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет“. Какой молодец, хоть и поэт!
Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод: Гумилёв монархист и активный контрреволюционер — был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилёва».
Постепенно Гумилёв начинает восприниматься как главный не эмигрировавший антисоветчик в русской литературе. И это при том, что никаких политических стихов с антисоветским смыслом он не писал. Как лютая антисоветчина начали толковаться даже невинные его произведения, вроде пересказа африканских мифов в стихотворении «Готтентотская космогония»:
Человеку грешно гордиться,
Человека ничтожна сила:
Над землею когда-то птица
Человека сильней царила.
По утрам выходила рано
К берегам крутым океана
И глотала целые скалы,
Острова целиком глотала.
А священными вечерами
Над багряными облаками,
Поднимая голову, пела,
Пела Богу про Божье дело.
А ногами чертила знаки,
Те, что знают в подземном мраке,
Всё, что будет, и всё, что было,
На песке ногами чертила.
И была она так прекрасна,
Так чертила, пела согласно,
Что решила с Богом сравниться
Неразумная эта птица.
Бог, который весь мир расчислил,
Угадал её злые мысли
И обрек её на несчастье,
Разорвал её на две части.
И из верхней части, что пела,
Пела Богу про Божье дело,
Родились на свет готтентоты
И поют, поют без заботы.
А из нижней, чертившей знаки,
Те, что знают в подземном мраке,
Появились на свет бушмены,
Украшают знаками стены.
А те перья, что улетели
Далеко в океан, доселе
К нам плывут, как белые люди;
И когда их довольно будет,
Вновь срастутся былые части
И опять изведают счастье.
В белых перьях большая птица
На своей земле воцарится.
Политизированная общественность немедленно всё истолковала. Белая Птица — это Белый Царь. То, что она глотала острова и скалы — это Российская Империя эпохи её расцвета. Разорванная птица — это гражданская война. Готтентоты, выросшие из песен про Божье дело, это несоветские поэты и прочие добрые русские люди. Подземные бушмены, выросшие из оккультных знаков на песке — это большевики. А когда приплывет «довольно» белых людей, то есть «белые» армии придут и возьмут власть, то вновь срастутся былые части, Российская Империя восстановится, а Белый Царь снова воцарится. Даже если Гумилёв ничего такого не имел в виду, то ситуация развивалась в логике анекдота про прокламации из белых листов, на которых ничего не написано — и так все всё знают.