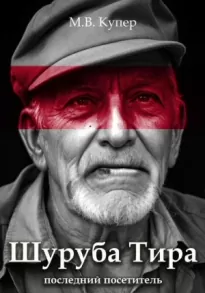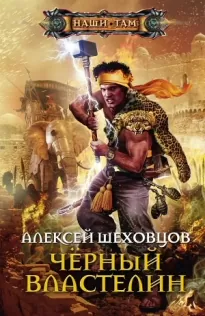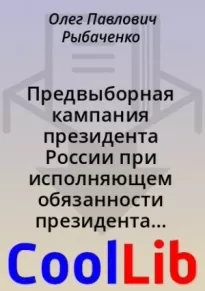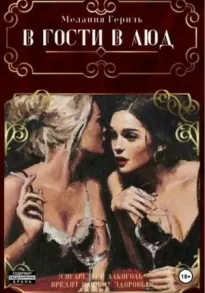Пиши без правил. Грамотность и речь в деловом и личном общении
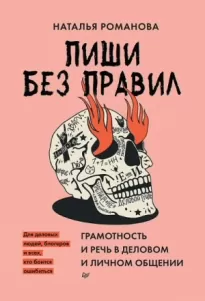
- Автор: Наталья Романова
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Пиши без правил. Грамотность и речь в деловом и личном общении"
А грамотность тут при чём?
Логично, что по роду деятельности лично мне приходится иметь дело с расхожими ошибочными суждениями насчёт грамотности намного чаще, чем с мифами о народной медицине, кулинарии, заговоре мировой закулисы, спорте и воспитании детей. Приведу список самых распространённых типичных ошибочных суждений «по своей специальности»:
× «Гаджеты и интернет вредят грамотности».
Гаджеты, по мнению некоторых граждан, это «рассадник ошибок, оттуда они переползают в тетради учащихся». А интернет, по их мнению, — это пространство, созданное специально для разрушения норм орфографии.
«Все теперь чуть ли не с грудного возраста в телефонах сидят. А там ошибка на ошибке. Вот и насмотрелись, так откуда взяться грамотности».
К сожалению, такое слышать приходится нередко. По этой логике получается, что безграмотность можно подцепить, натаскав ошибок из интернета. Это так же абсурдно, как заразиться и заболеть, общаясь в соцсетях и по телефону. Разумеется, подобные суждения не выдерживают никакой критики. Общий уровень ошибок у людей за последние 50 лет (это именно тот срок, на протяжении которого я внимательно отслеживаю этот процесс) не изменился. Технический прогресс влиять на него не в силах как в лучшую, так и в худшую сторону.
Вывод: интернет — неиссякаемый источник информации и ресурс, благодаря которому каждый возьмёт именно то, чего заслуживает, и ровно столько, сколько сможет унести. Это работает и в отношении грамотности в том числе.
× «Грамотность ухудшилась: в СССР все были грамотными, не то что сейчас».
Сейчас малограмотность и ошибки просто вылезли всем на обозрение. Их стало невозможно скрыть. Они у всех на виду. Достаточно зайти в соцсети, в любое телефонное приложение, на каналы популярных платформ, где открыты комментарии. Благодаря техническому прогрессу теперь, как говорится, всё тайное стало явным.
А теперь представьте, сколько раз в своей жизни человек сталкивался с чужим письмом в докомпьютерный век. Часто ли он видел своими глазами образцы текста, написанного другими людьми? Открытка к празднику, письмо от родственника, рецепт из поликлиники, расписка из ателье. Эпистолярный опыт тех лет на предмет ошибок специально никто не анализировал. Утверждения о том, что тогда «все писали грамотно» взяты с потолка. Это заблуждение. Поделюсь своим уникальным опытом наблюдений за грамотностью и письмом, особенности которых меня интересовали с самого детства.
Будучи школьницей, с 3 по 8 класс я публиковалась в газетах, выступала по радио и даже пару раз по телевизору. Став «звездой масс-медиа», я каждый день в течение шести лет получала мешки писем от школьников со всех уголков страны.
В один такой мешок на 50 килограммов помещалось несколько сотен писем. Из этой груды корреспонденции грамотными письмами, то есть написанными разумно и относительно без ошибок, были единицы — от силы десяток. На фоне океана безграмотных каракулей грамотные послания сильно выделялись, бросались в глаза. На каждое такое письмо мы с бабушкой писали ответ, с их авторами у нас завязывалась долгая содержательная переписка. Всем остальным я с благодарностью отвечала через газету. Возраст моих пен-френдов был 12–17 лет.
Подавляющее большинство взявшейся за перо юной пионерии из советских городов и сёл писало коряво и малограмотно. В точности так же, как и подавляющее большинство учащихся в нашем классе. Через год я перешла в другую школу. Там всё было так же. Из 35 учеников никаких проблем с грамотностью не было у трёх учениц, у них были круглые пятёрки. Пятеро учились на 4, а все остальные одноклассники были среднестатистическими дисграфиками, в точности такими, как те подростки, которых приводят к нам заниматься сегодня. С тех пор минуло полвека.
В течение двух месяцев мне довелось отдыхать и одновременно учиться в номенклатурном лагере «Артек». Это была смена юнкоров, юных корреспондентов, печатавшихся в газетах. Однако картина была такая же: грамотных подростков среди них тоже было ничтожно мало.
Во второй половине 70-х годов я была студенткой вечернего отделения Ленинградского государственного университета и при этом работала преподавателем русского языка в ПТУ с художественно-дизайнерским уклоном. «Хулиганов и двоечников» туда не брали. При этом из 240 учащихся (6 групп по 40 человек) умели связно писать, чтобы можно было хотя бы прочесть, человек 20 с большой натяжкой.
Вскоре «на районе» открылась новая школа, где мне достались седьмые и восьмые классы. Это была обычная восьмилетка, но некоторые учащиеся, которых в неё «слили» из соседних школ, вообще не умели толком читать и писать. В 80-е годы в «престижной» школе, куда был строгий конкурс родительских возможностей, ситуация была получше, но не сильно. В 9-х классах абсолютный перекос был в сторону двоек и троек. Умеющих писать без ошибок было снова ровно столько, сколько в классе, в котором я училась, будучи школьницей, — три человека.
Количество малограмотных (дисграфиков) на душу населения во все времена практически не меняется. Причины этого лежат за пределами образования и технического прогресса. Моя свекровь ещё задолго до появления компьютеров говорила, что раньше, в пору её молодости, народ был намного грамотнее. Речь шла о 50-х годах прошлого века. Но девичьи альбомы, где оставили образцы своего письма её сестры, одноклассницы, подруги и товарищи по техникуму возраста 1720 лет, об этом, к сожалению, не свидетельствуют.
Вывод: не надо обобщать. Суждения типа «раньше люди были грамотнее, чем сейчас» — это не более чем стереотип. Объективных данных для таких выводов нет. Наоборот, как раз сейчас возможностей повысить грамотность стало несравнимо больше, чем во времена СССР, когда не было доступа ни к каким самообразовательным ресурсам, частная репетиторская деятельность, если вылезала наружу, преследовалась законом, а о применении прогрессивных способов обучения и альтернативных методиках не могло идти и речи. На основании того, что теперь, благодаря новым медиа, безграмотность малообразованного населения и дисграфиков вылезла всем на обозрение, о падении грамотности как таковой судить нельзя.
× «Книги читай, будешь грамотный».
«Читать надо больше» — клише, которым пользуются граждане, не понимающие, в чём причина ошибок их родственников школьного возраста. Пожелание произносится с назидательно-укоризненной или возмущённо-наступательной интонацией. Как правило, степень эмоциональной вовлечённости говорящего обратно пропорциональна его собственной начитанности. На самом деле дисграфик, сколько на него ни наступай, не в состоянии с пониманием читать по той же причине, по которой он не может и удовлетворительно писать.
Это самый главный стереотип, претендующий на доминантную роль среди всех остальных. Оспаривать его очень трудно. Ведь читать не только полезно, но и необходимо. Это так же бесспорно, как и то, что человек должен развиваться, учиться, иметь профессию. Чтение почти священно, кто посмеет оспаривать его пользу? И вот тут сделаем паузу. В этом месте происходит подмена понятий. Да, чтение необходимо. Но утверждение «надо больше читать, чтобы стать грамотным» неверно. Это расхожее ошибочное заблуждение.
— У меня никогда не было проблем с грамотностью: я много читала.
— Я в школе писал на одни двойки: книг не читал! А после армии я стал запоем читать. Стал грамотным, проблемы исчезли.
Это кажется логичным. Но оба суждения ошибочны.
За чтение и письмо ответственны одни и те же структуры коры головного мозга — речевые системы. Те, у кого они развиты и устойчивы, не имеют проблем ни с грамотностью, ни с чтением. Такие люди обычно начинают читать ещё до школы. И с грамотностью у них порядок благодаря не чтению, а нормальному развитию речевых систем. Ведь они и читают без труда и мучений тоже благодаря работе этих самых клеток мозга, которые их не подвели в освоении таких сложных навыков, как чтение и письмо. Способности не у всех равны. У некоторых совершенно здоровых и умных людей эти клетки мозга не вполне созрели и немного тормозят. Одним трудно различать звуки речи, у других неустойчивое внимание, а чаще всего то и другое сочетается. Таким людям трудно сосредоточиться.
Трудности с чтением (дислексия) и безграмотность (дисграфия) — две стороны одной медали. Причина чаще всего в локальной незрелости отдельных нейронов коры головного мозга (речевых систем). Это избирательная, изолированная от прочих мозговых функций нейропсихологическая особенность, не связанная с интеллектом и мышлением.
Дисграфику нельзя помочь избавиться от ошибок, призывая его читать книги. Он не может полноценно читать, усваивать и понимать прочитанное. Его внимание быстро истощается. Когда нужные клетки в коре головного мозга укрепятся и созреют, тогда он и будет нормально читать и писать. Именно так и произошло у парня, который учился на двойки («книг не читал»), а после армии всё наладилось.
Так что отношения между письмом и чтением не линейные (одно улучшается благодаря другому), а параллельные: оба эти навыка развиваются благодаря созреванию и готовности обеспечивающей системы — корковых нейронов головного мозга.
Вывод следующий. Незрелость речевых систем, мешающих читать, носит временный характер. Это, скажем так, проходит. А потому не может являться причиной, которой некоторые любят оправдывать свою несостоятельность и ограниченность в развитии. Нечитающий человек малоинтересен: он плохо осведомлён и глуп. Удобен для манипуляций. У него нулевой кругозор. Ему скучно с самим собой. Он обречён иметь таких же тупых друзей, а впоследствии — столь же недалёкую и скучную жену (или глупого и неотёсанного мужа). Разве этого недостаточно? Так что для чтения есть куда более серьёзная мотивация, чем повышение своей грамотности.
× «Самое главное — это зрительная память».
Это не так. Для грамотного письма необходимо хорошее различение звуков речи (фонематический слух) и слухоречевая оперативная память. Зрительная память может сыграть роль в письме только у взрослых людей с полностью созревшими речевыми системами и стабильным нейропсихологическим статусом. К сожалению, по поводу зрительной памяти многие ошибаются, не зная, как работают центральные механизмы речи. Письмо находится в прямой зависимости именно от них.
Некоторые говорят: «Я представляю образ слова и в результате пишу его правильно». Увы, это иллюзия, обман восприятия. На самом деле действует сложный комплекс речевых механизмов, а не зрительная память. Письмо — это вид речевой, а не изобразительной деятельности, и в нём тесно переплетены сложные психофизиологические факторы и механизмы, прежде всего фонематические, слухоречевые, и лишь в последнюю очередь кинестетические и зрительные.
Вывод: необходимы опора на речь и на алгоритмы поведения при письме.
× «Врождённая грамотность».
Когда кто-то произносит это сочетание слов, сразу представляешь новорождённого младенца, который родился с ручкой во рту. Некоторые считают, что дитя может уже в утробе получить от доброй феи, помимо всяких других приятных благ, ещё в качестве бонуса сложные слухоречевые и психомоторные навыки.