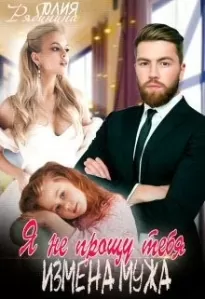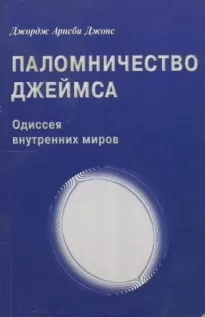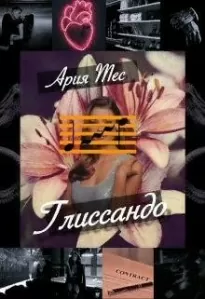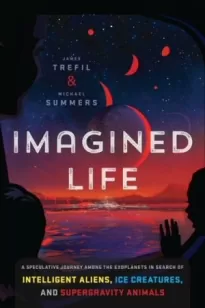Гул мира: философия слушания

- Автор: Лоренс Крамер
- Жанр: Философия / Музыкальная литература: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Гул мира: философия слушания"
Сорокаголосные мотеты
Около 1570 года Томас Таллис сочинил мотет для сорока голосов на текст гимна Spem in alium nunquam habui («Нет надежды, кроме как на Бога»). Вероятно, хотя и не точно, он был рассчитан на исполнение в восьмиугольном помещении с четырьмя балконами. В 2001 году Джанет Кардифф создала звуковую инсталляцию под названием Сорокаголосный мотет, которая теперь постоянно экспонируется в Национальной галерее Канады. Она состоит из сорока расположенных под потолком динамиков, из которых – по голосу на динамик – без остановки звучит мотет Таллиса. Посетители инсталляции (она представляет собой реконструкцию помещения церкви в постоянной экспозиции музея) могут перемещаться от одного динамика к другому вслед за музыкой. Таким образом, полифония, слышная в каждом из двух этих произведений, резонирует с полифонией высшего порядка между ними.
Мотет Таллиса начинается постепенным вступлением голосов, которые складываются в пятиголосный хор. Однако композиция в целом написана не для сорока отдельных голосов, а для восьми таких пятиголосных хоров, которые поют в разных комбинациях, образуя сложный рисунок звуковых усилений, спадов и торжествующих взлетов. Все сорок голосов поют одновременно лишь изредка. Таким образом, полифония в произведении возникает не только между голосами, но и между хорами. Если хоры находятся в разных частях церкви, полифоническое развитие мотета воспринимается не как непрерывная комбинация голосов, какой вполне можно ожидать от обычного хорового произведения, а как пульсация звучащих масс, волнообразно набухающих, затихающих и вновь набухающих. Звук в своей материальности присваивает силу духа. То же самое можно сказать и об инсталляции Кардифф, но в обратном смысле. Пьеса Кардифф действительно предназначена не только для отдельных голосов, но также и для их молчания, поскольку многие динамики время от времени затихают. Дух обретается не столько в голосах, сколько в пространствах между ними. И инсталляция Кардифф призывает своих посетителей совершать то же, что делает музыка Таллиса для неподвижной аудитории: гулять в пространстве.
Таллис прилагает все усилия к тому, чтобы текст мотета – по крайней мере в некоторые моменты его исполнения – был понятен. И не без оснований. В трех случаях, после того как все сорок голосов поют вместе, наступает общая пауза – момент, когда никто не поет. По крайней мере один из этих беззвучных моментов обнаруживает гул аудиального, оказывающийся, если его услышать, прелюдией к моменту благодати. Возможно, нечто подобное есть во всех трех паузах, по крайней мере музыка наводит на эту мысль, создавая паттерн, своего рода повествование, из их последовательности.
Первая пауза наступает после фразы «et omnia peccata hominum» («и всех грехов человека»), пропетой двумя хорами (такт 73). Хоры замолкают на середине фразы, открывая пространство чуда, сомнения и уязвимости, прежде чем сорокаголосный ансамбль завершает мысль утешительными словами: «In tribulatione dimittis» («в скорбях прощаешь»). Гармонический строй до и после паузы не меняется, непрерывность словно поддерживает надежду на отпущение грехов.
Вторая пауза наступает после продолжительной серии антифонных перекличек между хорами. На этот раз (такты 108–109) текст прерывается между «Creator caeli et terrae» («Творец небу и земли») и призывом «respice humilitatem nostrum» («призри на наше смирение»). Здесь ситуация острее: завершение фразы ближе к мольбе или молитве, чем к утверждению; заключительные слова говорят о смирении человечества перед величием Бога.
Гармония, возвращающаяся со вступлением полного ансамбля, должна каким-то образом преодолеть этот разрыв. Она делает это, вознаграждая. Аккорд, подтверждающий «призрение», не продолжает гармонию, которая предшествовала паузе. Неожиданный сам по себе, он еще больше обманывает ожидания музыкальным строем – звучит не в миноре, как, казалось бы, следовало, а в мажоре, словно отвечая на молитву прямо в момент ее произнесения. Этот дар нежданной гармонии подхватывает скрытую в тексте надежду. Пауза после слов о сотворении Богом неба и земли, возможно, призывает и, конечно же, получает эхо гармонии, которая, как традиционно считалось, сопутствовала рождению мироздания. Безмолвный промежуток позволяет уху прислушаться к отзвуку творения, который может быть слышен, как верят христиане, лишь в моменты особой благодати. Шекспир обращается к этой традиции в финале своей поздней пьесы Перикл, когда главный герой воссоединяется со своей давно потерянной дочерью:
Перикл
‹…› Дочь моя Марина,
Пусть небеса тебя благословят.
Я слышу звуки дивные. – Марина!
Всё расскажи подробно Геликану.
Мне кажется, еще в сомненьях он,
Что подлинно ты дочь моя. – Послушай:
Откуда эта музыка опять?
Геликан
Я ничего не слышу, государь.
Перикл
Ты музыки небесных сфер не слышишь. —
А ты, Марина, слышишь?[103]
Затем Перикл говорит о «божественной музыке», которая «погружает [его] в слушание»: это довольно точное описание момента, на котором мы остановились в мотете Таллиса. Композитор выполнил духовные требования текста, найдя прием, воплотивший аудиальное в музыке.
Общее звучание голосов длится только два такта. Когда оно рассеивается, гармония возвращается из области таинства на привычную почву. Краткость подчеркивает мимолетность этого момента: союз возгласа с тишиной, которая его призывает, образует духовный и выразительный стержень мотета. Но в инсталляции Кардифф, где у слушателя нет возможности сосредоточиться на общих паузах хора, этого, как я полагаю, услышать нельзя. Кардифф, так сказать, рассеивает чудо, которое Таллис сумел сконцентрировать. И тем самым приобретает одно – возможность долгого блуждания в лабиринте голоса, но теряет другое – аудиальное, с которым в ее работе можно столкнуться лишь случайно. Тем не мене такая возможность существует.
Третья и последняя пауза в мотете (такт 121) повторяет последовательность «respice humilitatem» в обратном порядке, прерывая хор на «смиренных» и давая гармони возобновиться на «призри», с каденцией. Каденция дополняет чудо его рациональным осознанием и тем самым подтверждает надежду (spem), которую чтец гимна целиком возложил на Творца. Эту концовку тоже только случайно можно услышать в инсталляции Кардифф. Цикличность музыки и движение публики закрывает им обеим путь к достижению своей цели. Зато Кардифф делает ощутимым резонанс, который в мотете должен оставаться скрытым. Встреча и расставание голосов на фоне векового молчания составляют зыбкий образ вечности – на краткий миг.