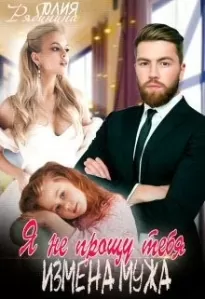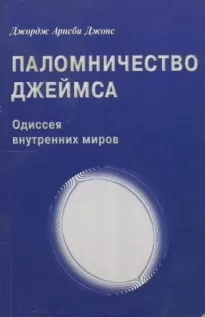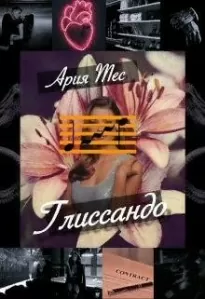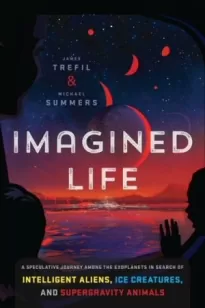Гул мира: философия слушания

- Автор: Лоренс Крамер
- Жанр: Философия / Музыкальная литература: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Гул мира: философия слушания"
I. Валери и Рильке
Французскому поэту Полю Валери не нравилась фраза «Je suis» («Я есмь»). Он писал о знаменитом декартовском доказательстве существования «Cogito ergo sum» (широко известном как Cogito: «Мыслю, следовательно существую»): «[Оно] не имеет смысла, потому что маленькое слово sum не имеет смысла. Никому во сне не привидится и нет нужды говорить: „Я существую“, если только его не принимают за мертвого и ему надо протестовать, что это не так. В любом случае он сказал бы: „Я жив“. Но вполне достаточно было бы крика или малейшего движения»[146].
Крик или движение. Того и другого было бы достаточно, чтобы продемонстрировать жизнь, потому что оба являются неотъемлемой ее частью, проявляющейся от одного чувствующего существа к другому. Звук – это движение, движение порождает звук. Древний критерий жизни как «самодвижущееся» подразумевает критерий жизни как «самозвучащее». Замечания Валери не относятся к этому слиянию, но они держат его в памяти отчасти из-за своей абсолютной нерефлексивной определенности: никто не будет говорить «Я есмь», потому что любой говорящий что-либо утверждает это действием. Освобожденное от своей беспечности, это утверждение предвосхищает постулат Левинаса о существовании условия высказывания, которое предшествует всему сказанному и в то же время признает, что это изначальное высказывание является не менее слуховым, чем речь, которую оно обрамляет. Это высказывание является материальным условием жизни, чтобы двигаться и слышать.
Иногда мы можем различить звук перехода от высказывания к сказанному, слабый, но отчетливый звук, соответствующий «крику или малейшему движению» Валери. Крик тоже может быть самым незначительным. Последний из Сонетов к Орфею Рильке, кажется, ищет именно такой. Стихотворение Рильке обладает особым достоинством: оно доказывает, что одна часть высказывания Валери ошибочна, но в то же время признает в нем зерно истины. Сонет, как и большинство предшествующих ему в этом цикле, посвящен взаимосвязи между утратой и поэтическим высказыванием, отождествленным с песней Орфея, которая поется и в то же самое время является поэзией. Настоящая звучащая музыка вызывала у Рильке по большей части подозрительность, если не откровенную враждебность. В одном из отрывков своего романа Записки Мальте Лауридса Бригге он прославляет глухоту Бетховена и для сцены идеального музицирования помещает композитора, исполняющего Хаммерклавир – и на хаммерклавире – в фиванской пустыне, куда раннехристианские аскеты отправлялись отречься от мира. Никто не может услышать музыку, даже ангел, который убегает в страхе, что игра может начаться.
Это недоверие к музыке важно, потому что «крик», завершающий сонет, – это слабый звук, заложенный в музыке его языка. Хотя при чтении стихотворения вслух его прекрасно слышно, этот слабый крик, вероятно, более уместен при безмолвном чтении, будучи скорее полууслышанным, чем услышанным.
Сонет обращается к неопределенному «ты», в котором личности читателя и самого поэта становятся неразличимы. Он состоит из ряда предписаний, в которых «ты» обязан преобразовать страдание в смысл, но в смысл, который не может быть произнесен, только услышан. Именно этот смысл становится слышен в последней строфе, которая, несомненно, является завершением всего цикла. Здесь важен язык оригинала, хотя я постараюсь уловить что-то от звука в переводе:
Und wenn dich das Irdische vergass,
Zu der stillen Erde sag: ich rinne.
Zu dem raschen Wasser sprich: ich bin.
И, горя земное превозмочь,
Ты шепни земле: Я быстротечен.
И теченью вымолви: Я есмь.[147]
Кажется, совсем не обязательно считать себя мертвым, чтобы сказать: «Я есмь». Быть обездоленным или несчастным вполне достаточно. Но оказывается – или эти строки просят нас так услышать, – что для того, чтобы сказать «Я есмь», требуется переход от произнесения к сказанному. Произнесение происходит не в утверждении, а в потоке – потоке песни, который дает движение и звук неподвижной и тихой (stillen) земле. Эти два дара неотличимы. Сказанное переходит в речевом акте к быстрому течению, то есть к материальным водам земли и к потоку песни, из которого затем возникает как утверждение бытия: «Я есмь». Произнося это в настоящем времени стихотворения и в будущем времени читателя, говорящий также заявляет «Я жив»: я двигаюсь и звучу. Последнее утверждение, однако, не становится полностью слышимым в словах.
Для этого нужна рифма, которую перевод не может передать. Рильке пишет «ich rinne» и «ich bin». Рифма здесь является не только повторением, но и кульминацией. Отбросив [-ne] из rinne с его гласным звуком и сжав rinne до bin, то есть до формы первого лица настоящего времени глагола «быть», сонет воплощает в звуке движение от потока высказывания к твердости сказанного. Даже продолжительность последнего слова способствует слышимости его значения, поскольку bin, обозначая длительность, составляет рифму лишь на одно мгновение. Смысл жизни звучит в мимолетном обрыве потока.