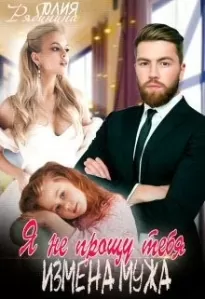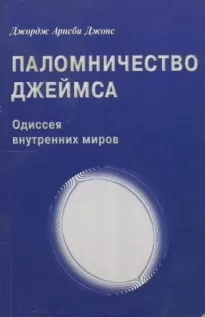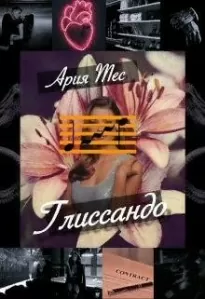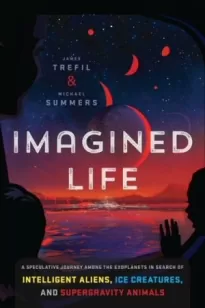Гул мира: философия слушания

- Автор: Лоренс Крамер
- Жанр: Философия / Музыкальная литература: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Гул мира: философия слушания"
Неслышимое
Имя как магическое заклинание рождается в резонирующем окончании слухового спектра. Есть ли еще что-то в этом затихающем окончании?
Спектр простирается от оглушающего к безмолвному, но по пути возникает ряд слуховых этапов, уводящих от слышимого, но не совсем покидающих его: слышимое, отдаленно слышимое, полууслышанное, аудиальное. Мы можем думать о них как о координатах слышимого мира. Но как насчет неуслышанного? Или неслышимого? Имеет ли неслышимое позитивную форму или же просто указывает на отсутствие? Полностью ли оно отделено от слышимого мира, соприкасается ли с миром в определенных точках или простирается в другие неизвестные области?
Эта категория является сложной. Она включает в себя как минимум знакомые звуки, которые, случается, я не слышу (шелест листьев, гонимых ветром за закрытым окном), звуки, которые я не слышу в принципе (растущая трава, биение крыльев бабочки, ржание единорога), и звуки, которые никто никогда не слышал, но которые кто-то может услышать впоследствии. Поскольку звук дает чувствам их будущее время, поскольку аудиальное – это форма обещания, неслышимое – это живой потенциал нового звука, прикосновение будущего, обещанного звуком, присутствующего в действии. Неозвученное – это негативная полнота, как и темная материя, заполняющая бóльшую часть пространства.
Саломея Фёгелин предполагает, что неслышимое, как еще не услышанное, – это реальность, в которой композиторы и звукорежиссеры отшлифовывают свой профессионализм: они уполномочены на воплощение этих звуков в жизнь[142]. Какой вид слухового акта выполняет оно? Что оно делает слышимым до того, как прозвучит услышанное? Как может звук вторгаться в наш чувственный опыт до существования в чувственной форме?
Слуховой аппарат для этих предстоящих звуков – язык. По мнению Фёгелин, язык не может ни представлять, ни описывать звук, но он может выявлять звук через силу присвоения имени. Имя, данное звуку, пока вы слышите его, делает этот звук доступным для слуха позже. Имя «не представляет никакой истины, но порождает свою собственную. [Оно] не может быть выдумано заранее и не может быть выведено из описания, которое ему соответствует»[143]. Если речь идет о животных, то названия звуков, которые они издают, напоминают названия самих животных в Эдемском саду: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым» (Быт. 2:20). Имена, которые дает им Адам, делают животных познаваемыми. Имя наделяет создания резонансом, даже если и имя, и создание не существуют, как показывает стихотворение Джона Холландера Задача Адама:
Ты, вердл; ты, помма Макфлири;
Ты; ты; ты – три вида грауля;
Ты, флискет; ты, кабаш;
Ты, запятая ушастых машавок;
Ты, всё; ты, всё.[144]
Присвоение имени выполняет свою работу и как обозначение, и как звук. Интимное «ты» открывает канал обозначения; его ритмический пульс связывает каждое названное животное со своими собратьями, а также с тем, кто дает имя. В результате частное «ты» превращается в общее «Ты», вбирающее в себя всё Творение – в то же время, конечно, искажая его. Не обращайте внимания на бессмысленность этих имен для нашего слуха; они не более бессмысленны, чем имена, утратившие свою звучную пышность из-за привычности (проблема не в Эдеме). Прислушиваясь, мы могли бы даже подумать, что знаем, как звучала помма Макфлири. Если мы можем назвать неслышимое, то его имя станет тем, что Фёгелин называет «порталом» к слуховой реальности: «Неслышимое в звуковом пространстве – это не буквальный звук единорога, но „звук единорога“ – это то, что возбуждает воображение»[145].
Но имя – это только начало. В отличие от имен собственных в Мосте или В наполненном сумерками воздухе (с. 185), а также от видовых названий в Задаче Адама, слуховые имена должны создавать свою собственную харизму. Для тех, кто лишен привилегии Адама, такие имена не могут действовать сами по себе. «Звук единорога» ничего не говорит о том, как он может издаваться, если бы единороги существовали. Это не название звука, как «шорох» или «ржание», и ни в каком смысле не похоже на фразы, построенные на преимущественно слуховом опыте, как библейский «голос черепахи» или «голос ткацкого челнока» Софокла. Если я хочу создать или синтезировать голос единорога, мне нужно представить его звучание в связи с легендой. Мне нужно задаться вопросом, как бы, в конце концов, звучал голос такого существа, как легендарный единорог. А чтобы ответить, мне нужно описание. Мне даже нужно двойное описание, потому что легенда о единороге исключительно живописна. Моя попытка оживить его радостное ржание, если можно так выразиться, требует формирования моего понимания, сочетающего воспоминания о том, что я читал о единороге, с тем, что я видел на гобеленах и картинах. Проверить мое понимание можно, спросив, какими словами я бы описал звучание его тихого ржания, его зов или крик.
Это не означает, что мое описание может передать звук, это означает, что на основе описания звук поднимется до уровня конкретной потенциальности. Если звук впоследствии станет реальным, то именно он выразит описание, а не наоборот, в то же время он дополнит описание и выйдет за его пределы. Воображение порождает звук единорога на основе такого описания: «Высокий, чистый монотонный голос, похожий на долгий звук piccolo, но со странным резонансным полутоном»; или другого: «Тихая трель, пронизывающая глубокую меланхолическую мелодию». Доступ к неслышимому обеспечивается тем самым описанием, которое не объясняет звук в его аудиальной форме.
Литературный язык полон таких описаний. Например, первые две строки из Покоя рек Крейна (случайный пример) – дают потенциальному звуку описание, которое вызывает его: «Ивы несли медленный звук, / Сарабанду ветер косил на лугу». Музыка обладает той же способностью, когда мы знаем вопрос, на который она дает ответ. Когда Томас Адес в опере по мотивам шекспировской Бури, пишет партию Ариэля в диапазоне, значительно превышающем норму даже для колоратурных сопрано, он не только отвечает на неразрешимый вопрос пьесы – как звучит Ариэль? – но и дает нам возможность прислушаться к чему-то новому. Описание звука, будь то музыкальное или вербальное, является частью его генезиса. Мир полон неслышимых звуков, которые не ускользают от нас, даже если мы никогда их не слышали.