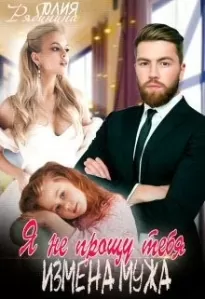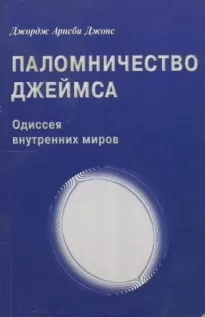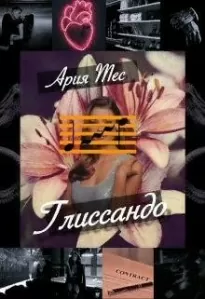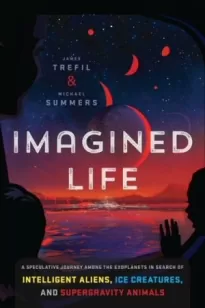Гул мира: философия слушания

- Автор: Лоренс Крамер
- Жанр: Философия / Музыкальная литература: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Гул мира: философия слушания"
Преображенное чтение Святой Августин
Голос, обращенный к слушателю, угрожает поглотить его двумя противоположными крайностями: как внутренний голос самобичевания и самонаказания, угрызений совести, всегда превышающих обвинение, и как голос извне, успокаивающий и обволакивающий, который заводит слушателя в фантазии погруженности в досимволический уют. Один голос терзает, как подсказывает сама фраза «угрызения совести»; другой растворяет слушающего субъекта в своем языке. Каждая крайность по-своему побуждает отречься от себя ради высшего Другого, через которого акт самоотречения может стать самообновлением. Против этого, возможно, устоит только неуловимая вибрация аудиального в облике протоголоса, который не может ни повелевать, ни соблазнять, но только – почти что – быть.
Два знаменитых отрывка из Исповеди святого Августина намекают на этот протоголос в описании, затрагивающий обе крайности. В первом из них святой Августин описывает своего наставника, святого Амвросия, читающего молча. Примечательно, что действия святого Амвросия святой Августин находит достойным внимания. Это описание долгое время было в центре споров о степени существовании чтения «про себя» в Античности[65]. Современное мнение склоняется к версии, что и беззвучное чтение, и чтение вслух были обычной практикой; разница между древностью и современностью состоит в том, что для нынешних читателей чтение молча – норма, а вслух – исключение. В этом отношении они подражают святому Амвросию, который, по словам святого Августина, был необычен не потому, что читал молча, а потому, что никогда не делал иначе. Но этот же отрывок весьма интересен и по другим причинам, прообраз современной практики святого Амвросия лишь одна из них:
Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему, ‹…› я заставал его не иначе как за этим тихим чтением. Долго просидев в молчании (кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность?), я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого перерыва, который ему удавалось среди оглушительного гама чужих дел улучить для собственных умственных занятий.[66]
Необычность святого Амвросия заключалась в том, что он превращал молчаливое чтение в абсолютно личный акт. Это создавало буферную зону тишины между ним и многими другими, с которыми он проводил бóльшую часть своего времени, помогая и давая советы. Безмолвное чтение святого Амвросия, происходившее в присутствии всех, кто оказывался рядом, было способом подтверждения того, что его забота о других требовала уравновешивания заботой о самом себе (как эхо Мишеля Фуко). Основное значение слова feriatum, которое здесь переведено как словосочетание «короткий перерыв», – это отдых.
Святой Августин считает, что чтение святого Амвросия заслуживает внимания не как норма, а как особая, частная практика: возможность обрести понимание в самом себе, дабы освежить и восстановить свой дух. Тишина чтения – это противоядие от «оглушительного гама» (strepitum: гомон, шум, грохот) внешнего мира. Это безмолвие – что угодно, только не пустота. Оно наполнено тем смыслом, который позволяет сердцу познавать. Вдобавок сведущие воспринимают молчание святого Амвросия как нечто, что можно разделить с ним. Святой Августин и его спутники наблюдают за этим молчанием, подражая и воспринимая его как форму напряженной сосредоточенности читателя.
Но что они могли воспринимать? Какова сенсорная субстанция этой общей приостановки голоса? Что находится между глазом и сердцем, страницей и смыслом? Ответ возникает позже, в ключевом моменте истории обращения святого Августина:
Я плакал в горьком сердечном сокрушении, когда внезапно услышал голос из соседнего дома, будто бы мальчика или девочки, повторяющий нараспев: «Возьми и читай! Возьми и читай!» (tolle lege, tolle lege) Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное? Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. ‹…› Взволнованный, вернулся я на то место, где ‹…› оставил ‹…›, уходя, Апостольские послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: сразу же сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений.
Голос, который слышит святой Августин, – музыка в пространстве – повелевает ему обратиться от внешнего к внутреннему слуху и вниманию. Голос исходит не от ребенка, а будто бы (quasi) от ребенка. «Будто бы» резонирует сразу на нескольких уровнях. Для святого Августина, мучимого своим плотским желанием, детский голос является до-плотским; он являет в материальной форме слова святого Павла о том, что во Христе нет ни мужского, ни женского (Гал. 3:28). В то же время он напоминает слова Иисуса из Евангелия от Матфея (18:3): «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Подобно голосу, пение ребенка делает слышимым человеческое существо, лишенное всех посторонних атрибутов. Это чистая субъективность, воплощенная в звуке.
Текст святого Августина сохраняет звучание песнопения повторением фразы (tolle lege), которая сама по себе богата вербальной музыкой: текучая буква «l» связывает парные слова и парные окончания «-е». Описание детализирует песнопение, будто услышанное мысленным слухом. Когда святой Августин действительно начинает читать, свет истины возникает в нем сразу же после того, как предложение, которое он читал, заканчивается. Этот переход подтверждает, что чтение имеет сенсорную форму, которую нельзя назвать безмолвной. Внутренняя интонация предложения прокладывает квазиакустическое пространство полууслышанного; божественный голос, слова которого читает святой Августин, заполняет пространство до предела.
Обретенное обновление духа соответствует той уединенной практике, которой святой Августин научился у святого Амвросия. Он сидел со своим другом Алипием, но уходит один, чтобы поплакать под смоковницей. («Доколе…» – пишет он, побуждая читателя вспомнить пару евангельских отрывков, в которых бесплодная смоковница символизирует духовную пустоту.) Услышав пение ребенка, он возвращается к скамье, где сидит Алипий, берет книгу, которую оставил там, и читает молча, как обычно делал святой Амвросий в присутствии молчаливого святого Августина. Лишь после он начинает рассказывать о случившемся своему другу и его матери. Но повествование заканчивается не этим. Читатель Исповеди должен подражать святому Августину, как святой Августин подражал святому Амвросию. Нить духа в этой эстафете чтений, какой бы тонкой она ни была, никогда не будет иной, кроме как аудиальной.
Возможно, то, что мы называем безмолвным чтением, следует назвать как-то иначе. Полууслышанное – это поистине сенсорный опыт. Он делает различимым сам медиум письма, вибрацию потенциальной речи.
До изобретения аудиотехники полууслышанное было единственной доступной формой записи голоса. Это было средство, с помощью которого письмо сохраняло не только членораздельное высказывание, но и тон, музыку высказывания, так что чтение про себя могло восприниматься как непосредственная встреча с голосом писавшего. Скорее всего, письмо больше не может играть такую роль в мире, где широко распространена [аудио]запись голоса, но не исключено, что оно еще может восприниматься как своего рода ностальгия, которой возможно наслаждаться втайне. В отличие от произнесенного голоса в его мимолетности, полууслышанный голос можно бесконечно восстанавливать в процессе чтения. Он возникает не как воображаемый звук, которым субвокально чревовещает читатель, а как воспроизведение, которое гармонирует с вибрацией произнесения вслух.
Ницше неохотно свидетельствует об интимной силе полууслышанного в своей интеллектуальной автобиографии Ecce Homo. Он сопротивлялся ей, поскольку хотел избежать контакта, который искали другие: «В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать…»[67] В таких обстоятельствах мышление громче произнесения. Книги хоть и немые, но шумные. Подобно гондольерам и торговкам рыбой Гёте, они призывают к сочувственному отклику, посылая вдаль музыку своих голосов.