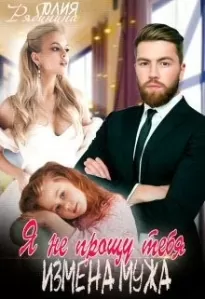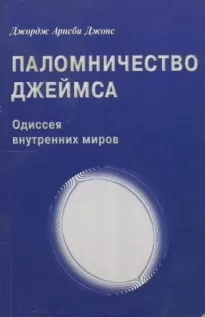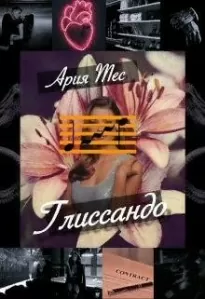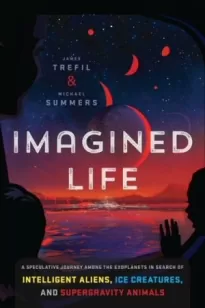Гул мира: философия слушания

- Автор: Лоренс Крамер
- Жанр: Философия / Музыкальная литература: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Гул мира: философия слушания"
III. Поиск нужных слов
Недовольство языком может беспокоить даже тех, кто больше всего зависит от слов и использует их лучше всего. Виртуозы языка могут ссориться со своим инструментом; но никто не может быть так зол на слова, как поэт или романист, живущий ими и для них. Эта интимная ярость витает на заднем плане эссе Кормака Маккарти о языке и бессознательном. Эссе не только самообличающее, но и неожиданно дающее некоторое представление о связи между языком и аудиальным.
Маккарти не употребляет понятие «бессознательное» в психологическом смысле, фрейдистском или ином. Он применяет его в биологическом контексте. «Выражаясь как можно более емко и точно, – говорит он, – бессознательное – это машина для управления животным». Но всё это делается куда более загадочным, когда мы рассматриваем такие вещи, как образы в сновидениях. Маккарти вспоминает опыт химика Августа Кекуле (1829–1896), открывшего молекулярную структуру бензола – бензольное кольцо – с помощью сновидения «змея, свернувшаяся в кольцо с хвостом во рту – Уроборос из мифологии»[127]. «Почему?» – спрашивает Маккарти, будто бы раздражаясь.
Поскольку бессознательное прекрасно понимает язык, иначе оно, в первую очередь, вообще не поняло бы проблему ‹…› почему оно просто не отвечает на вопрос Кекуле чем-то вроде: «Кекуле, да это чертово кольцо!»? ‹…› Почему именно змея? ‹…› К чему эти образы, метафоры, картинки? Да и к чему эти сны, если уж на то пошло?
Один из ответов состоит в том, что бессознательное на самом деле просто отвечает на вопрос Кекуле; Уроборос – и есть кольцо. Остается вопрос, почему именно такое кольцо, но это возвращает нас к фрейдистскому бессознательному, которое, вопреки распространенному мнению, является не первобытным болотом, а системой, полной культурных резонансов. (Маккартиевская версия бессознательного должна была бы понимать это, учитывая Уробороса.)
Но настоящая проблема Маккарти – это ощущаемый им разрыв между языком и мышлением. Мысль, говорит он, идет впереди, речь всегда лишь догоняет ее. Чтобы подчеркнуть это, он ссылается на общий опыт поиска правильной формулировки для выражения идеи в словах. Из паузы между идеей и высказыванием он делает вывод, что идея существует в бессознательном в некой неизвестной форме. Мы боремся за то, чтобы «воскресить идею из этого омута мы-не-знаем-чего и придать ей лингвистическую форму, чтобы она могла быть выражена. Именно то, что мы хотим выразить, является репрезентативным для этого омута знаний, форма которого столь аморфна».
Однако вывод не следует логике. Считать так – значит путать нехватку сознания с нехваткой языка. Это различие восходит, по крайней мере, к Фрейду и Ницше. Ницше, хотя и использует термин «сознание» для обозначения рефлексивного знания, следующего за использованием языка, решительно утверждает наличие непосредственного знания, независимого от языка: «Безусловно, бóльшая часть нашей жизни происходит без зеркального эффекта [саморефлексии, опосредованной языком]; и это верно даже для нашего мышления, чувств и волевой жизни»[128]. Фрейд подобным образом утверждает, что бессознательное совпадает не с тем, что остается невысказанным в данный момент, а с тем, что не может быть произнесено[129]. Другими словами (и это не безобидная формулировка; всегда есть другие слова, и всегда должны быть), когда я подыскиваю слова, я прекрасно знаю, что я думаю, но я еще не четко артикулировал свою мысль. Или, скорее, я знаю ее всё же не полностью, поскольку артикуляция выступает не только открытием, но и созиданием, и когда я буду формулировать мысль, я буду формировать ее, а формируя, изменю ее.
Безмолвие мысли – не источник, Маккарти называет это паузой. Я не прихожу к ней ниоткуда. Не то чтобы до этого молчания я никогда не говорил и не писал. Язык продолжает резонировать в своих паузах, и ни один человек в мире не может жить без них. (Мы делаем паузу, мир их не делает.) То, что я слышу в этом безмолвии мысли, это не отсутствие, а потенциальность. И поскольку я поддерживаю эту потенциальность между одним речевым актом и другим, то услышанное является резонансом аудиального. Безмолвие моей мысли – это форма вибрации. Предположение Маккарти о том, что гораздо более дрéвнее и физически первичное бессознательное (в объединенном биологическом, неврологическом и психологическом смысле) враждебно относится к опаздывающему языку, верно определяет накал языкового недовольства. Но Маккарти ошибочно приписывает это недовольство врожденному атавизму, потому что не обращает внимания на звук.
Недовольство языком культурно опосредованно. Оно зависит от представления о высшем или более глубоком порядке, достичь которого язык нам не позволяет, но который становится мыслимым только с помощью языка. Романист Маккарти знает это, и иногда в его отрывках чрезмерная полнота высказывания рождает паузу, которую не в состоянии заполнить никакое высказывание:
Он взвешивал слова женщины, но знал, чего она не знает. ‹…› Тот, кто каким-то колдовством или каким-то сном может пронзить завесу, мрачно лежащую над всем, что находится перед ним, может благодаря этому видению заставить Бога свернуть мир с его пути и направить его совсем в другое русло, и тогда где же колдун? Где же мечтатель и его мечта? Он сделал паузу, чтобы все могли поразмыслить над этим. Чтобы он сам мог это обдумать. Затем он продолжил. Он говорил о холоде в горах в это время года. Он населил землю для них птицами и животными. Попугаи. Тигры. Люди другого времени, живущие в пещерах этой страны, такой далекой, что мир позабыл убить их.[130]
Далее следует гораздо больше. Эссеист Маккарти забывает о резонансе паузы, которую он здесь помещает, и почти прометеевской речи, следующей за ней. Его выступление против языка становится выражением известного современного чувства обманутости чем-то первоначальным. Единственный след этого чего-то, который он может найти, – это тишина мысли до того, как ее нарушит речь. Но безмолвие мысли, как и безмолвие, которое имеет тенденцию преобладать в сновидениях, даже в говорящих снах, не возникает из высшей достоверности безмолвия. Оно возникает потому, что возможность речи находится в состоянии покоя. Но речь в бездействии – это речь грядущая. Или, еще лучше, это звук грядущей речи.