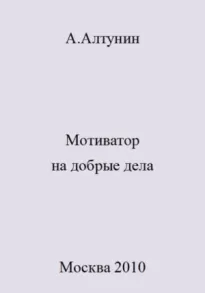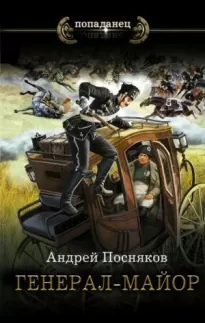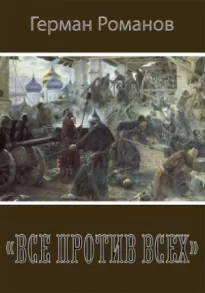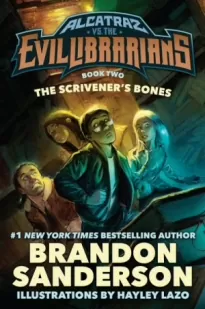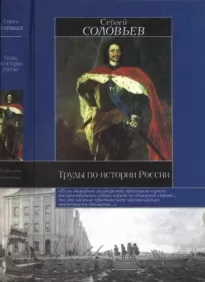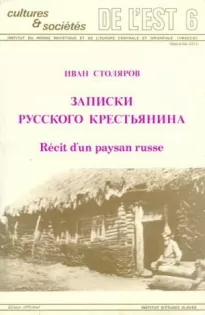Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры
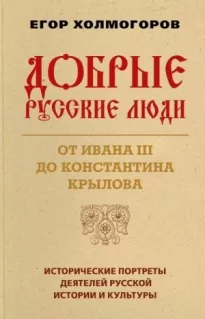
- Автор: Егор Холмогоров
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"
«И в прошлом же во 172‐м году генваря в 3‐й день писал к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу из Сибири с Лены из Якутцкого острогу стольник и воевода Иван Голянищев-Кутузов и прислал с ленским казаком с Сенькою Дежнёвым с товарыщи кости рыбья зуба, которая взята на великого государя в Якутцком остроге у служилых и у промышленых людей, всего 196 пуд 17 гривенок с полугривенкою, в том числе ево, Сенькиной, кости 31 пуд 39 гривенок и за ту кость выдано ему, Сеньке, против ево челобитья собольми на 500 рублев» (Орлова, Н. С., 1951: с. 513).
«Челобитья» Дежнёва об этой выдаче, равно как и приказного решения о ней, историкам обнаружить не удалось, поэтому мы узнали об этом пожаловании походя, из подробного дела Сибирского приказа о «поверстании» Дежнёва в оклад атамана Якутского острога.
Зато сохранилось подробное дело о выдаче Семёну Ивановичу жалования, которое ему задолжала казна за десять лет его путешествий. Жалование в 126 рублей 6 алтын 5 денег выдано было на треть деньгами, на две трети сукном.
«И генваря в 29 день по сему великого государя указу из Сибирского приказу ленскому казаку Сеньке Дежнёву за государево годовое денежное и за хлебное жалованье со 151‐го году по 170‐й год всего на 19 лет денег 38 рублев 22 алтына 3 деньги, да сукнами 2 половинки темно-вишневых, да половинка светлозелена мерою в них 97 аршин с четью по цене на 80 на 7 рублев на 17 алтын на 3 деньги, по 30‐ти алтын за аршин. Всего сукнами и деньгами на 100 на 20 на 6 рублев на 6 алтын на 4 деньги дано из Мишкина приему Обросимова. А в тех сукнах и в деньгах росписался в росходной книге» (Орлова, Н. С., 1951: с. 285–286).
Итак, Дежнёв получил 97 аршин крашеного сукна на 87 с лишком рублей. По цене 30 алтын за аршин.
Сукно пользовалось в Сибири, как отмечает Н. И. Никитин, «почти неограниченным спросом», а так как сукно выдавалось по московским расценкам, то, пересекая Урал, оно удваивалось в цене, и к Якутску Дежнёвская выдача, как минимум, утроилась. Точных цен на сукно в Якутске мы не знаем, но о потенциальной прибыли Дежнёва мы можем судить по «часовым поясам цен» на другие товары: «в середине XVII в. одежда в Восточной Сибири стоила вдвое дороже, чем в Западной. Топоры в Тобольске ценились по 32 коп., а в Якутске по 1 руб., пуд хлеба в Тюмени стоил 1–2 коп., в Енисейске 10–20 коп., а в Нерчинске 1,5–2 руб.»[12].
Казалось бы, всё яснее ясного. За свои труды «Сенька» был справедливо вознаграждён. Причём речь шла не о какой-то чрезвычайной милости, а о рутинной бюрократической процедуре неплохо функционирующего государственного аппарата, каковым и был приказной аппарат Российского царства в середине XVII века.
Однако такое развитие событий совершенно противоречило бы сформировавшемуся за последнее столетие нарративу, согласно которому любой русский герой непременно должен быть обижен, обманут и унижен правительством, иначе какой же он герой. Советским авторам этот «историографический канон» необходим был, чтобы поддерживать в читателях враждебность к русскому самодержавию. Современным — чтобы нападать на Российское государство как таковое.
И вот, авторы «Дебрей» начинают запутывать читателя в, казалось бы, совершенно ясном вопросе. Они сообщают, что за моржовую кость Дежнёву «заплатили второсортными соболями; пришлось сбывать их в Москве по дешёвке», а о выдаче сукна высказываются презрительно: «мол, сам загонишь кому-нибудь в Якутске» (Дебри, 2017: с. 129).
Здесь проявляется характерная психология человека XXI века, который мерилом богатства считает исключительно «кэш», а представление о выдаче жалования продуктами у него ассоциируется с серединой 1990‐х годов, когда работники фабрик и заводов стояли вдоль шоссе, торгуя выданными им вместо зарплаты кастрюлями и детскими игрушками. Реальность XVII века была прямо противоположной, особенно в Сибири: товар — соболь или ткань — был надёжным способом сбережения капитала и его преумножения.
Поскольку все документы о Дежнёве хорошо известны, то нет никаких сомнений: утверждение, что 500 рублей были выданы ему «второсортными соболями», является чистейшим вымыслом, не имеющим никаких оснований в источниках. Причём вымыслом на редкость невежественным: сбывать соболя «в Москве» и «по дешёвке» — это противоположные друг другу реальности. Соболя казна выдавала по своим государственным расценкам, которые были занижены по сравнению с рыночной ценой, поэтому, сбыв ходовой товар на рынке (ещё раз подчеркну: утверждение о плохом качестве соболей, выданных Дежнёву, является безосновательной выдумкой), Дежнёв прибавил к своей выдаче, как минимум, 20 %.
Но совершенное непонимание А. Ивановым и Ю. Зайцевой денежных отношений между Дежнёвым и казной закономерно приводит их к чудовищной и постыдной лжи: абсолютно выдуманному клеветническому эпизоду, в котором они попросту измазывают Дежнёва в грязи с головы до ног.
«Дежнёв решил отыграться. Вместе с напарником Иваном Ерастовым он должен был доставить жалование служилым — три тысячи рублей. А Дежнёв и Ерастов на тысячу рублей самовольно купили того же сукна, чтобы в Сибири этот товар выдали служилым в счёт жалованья, но по высоким сибирским ценам, и разница между якутской и московской ценой попала бы в карман прохиндеям. Трюк не прокатил. Ерастову прописали батогов, а вот Дежнёв, умеющий договариваться, как-то отвертелся от возмездия» (Дебри, 2017: с. 129).
Повторим ещё раз: перед нами ложь от первого и до последнего слова. Единственное, что соответствует действительности, — это поручение Дежнёву доставить в Якутск царскую казну. О том, что Дежнёв возвращался в Якутск с государевой казной, мы узнаём из подорожной, которая предусматривала его право на пути в Сибирь заехать в Великий Устюг и забрать с собой своего племянника Ивана с семьёй.
«В нынешнем во 173‐м году по нашему, великого государя, указу отпущен с Москвы в Сибирь на Лену в Якутцкой острог ленской Якутцкого острогу казак Сенька Дежнёв с нашею государевою з денежною казною. Да ему ж, Сеньке, по нашему великого государя указу велено взять на Устюге Великом племянника своево Ивашка Иванова…» (Орлова, Н. С., 1951: с. 517).
Два других документа уточняют обстоятельства возвращения Дежнёва в Сибирь. Первый — его челобитная о праве забрать племянника: «в нынешнем, государь, во 173‐м году, по твоему, великого государя, указу волокусь я, холоп твой, в Якутцкой острог, на твою, великого государя, службу» (Орлова, Н. С., 1951: с. 515). Второй — память Сибирского приказа в Ямской приказ о выдаче подорожной и предоставлении транспорта Дежнёву до Якутского острога: «казаку Сеньке Дежнёву подводы с саньми и с проводники, а летом водою лотку и кормщика, и гребцов против подвод по указу» (Орлова, Н. С., 1951: с. 516).
Ни в одном из документов об обратном пути Дежнёва и доставке казны не упоминается боярский сын Иван Ерастов. Предположить, что как Ерастов и Дежнёв в Москву прибыли вместе, так вместе и отправлялись назад, нам ничто не запрещает. Вскоре и Ерастов, и Дежнёв окажутся в Сибири, так что возвращались они более-менее одновременно. Однако никаких, повторюсь ещё раз, никаких документов об участии Ерастова в доставке в Якутск казны и, тем более, подтверждающих фантазию о его мнимой растрате этой казны, попросту не существует. Вся история с аферой является вымыслом человека, который довольно плохо знает механизмы функционирования государевой службы в XVII веке, не знает о многочисленных описях и пересчётах казны в пути, о том, что за такую аферу её участники поплатились бы не только головой — их попросту сжили бы со свету свои же сослуживцы.
Поскольку ни один из известных исследователям документов не упоминает и не мог упоминать этого «скандального эпизода», не говорит о нём, разумеется, никто из исследователей биографии Дежнёва — ни дореволюционных, ни советских, ни постсоветских, возникает вопрос: откуда же А. Иванов и Ю. Зайцева взяли эту постыдную ахинею? Ведь вряд ли вполне квалифицированный историк А. Иванов проявил столько бессовестности, что попросту сочинил её сам. Недолгий поиск показал, что авторов книги подвела «копипаста» и источниковедческая неразборчивость.
Выдуманный эпизод с «растратой» Дежнёва и Ерастова сочинён, не побоимся резкого слова, графоманом «В. Бахмутовым-Красноярским» — автором, размещающим в интернете свои измышления, касающиеся истории Сибири, в коих произвольные трактовки перемежаются с прямыми выдумками. По тем или иным причинам В. Бахмутов питает к Дежнёву крайнюю антипатию, стилистически вполне соответствующую формуле «для лакеев нет героев».
Целый трактат В. Бахмутов посвятил доказательству теории, что никакого пролива между Азией и Америкой С. Дежнёв не проходил, так как оказался не на известной нам реке «Анандырь», а на другой, впадающей в Ледовитый океан, откуда перешёл на ту самую Анадырь сушей. Эта ревизионистская гипотеза опровергнута историками и географами десятки раз, не укладывается ни в географические описания, ни в хронологию (выйдя с Колымы в июне, Дежнёв должен был бы болтаться до октября неизвестно где). Да и никакого внятного альтернативного объяснения маршрута Дежнёва В. Бахмутов-Красноярский не даёт — для него явно достаточно пошатнуть славу землепроходца.
Все утверждения, что коч Дежнёва потерпел крушение в Ледовитом океане, после чего по какой-то из рек северного стока Чукотского полуострова он добрался до реки Анадырь, находятся в неразрешимом противоречии с отправленной 4 апреля 1655 года полемической отпиской Семёна Дежнёва и Никиты Семёнова, где они опровергают притязания служилого человека Юрия Сильвестрова на моржовую «коргу» у устья Анадыря.
«Писал де он, Юрья, в Якуцкой острог, что ту коргу и морсково зверя и заморную кость зверя того приискал он, Юрья, преж сего, как был с Михаилом Стадухиным, а не мы, служивые и промышленные люди. И то он писал ложно потому, знатно, что в прошлом во 158 году писал с Колымы реки Михайло Стадухин: ходил де он, Михайло, с товарищи с Колымы реки морем вперед на Погычу реку, и он, Михайло, бежал де по морю семеры сутки, а реку де не дошли никакой, нашол де он, Михайло, коряцких людей небольших и языков де переимал, а на роспросе языки людей впереде сказали, а реки де впереде не знают никакой. И он, Михайло, с товарищи и з беглыми служивыми людьми воротились в Колыму реку. И он, Юрья, был с ним же, Михаилом. И то он, Юрья, писал ложно, потому что не доходил он, Михайло, до Большово каменново Носу, а тот Нос вышел в море гораздо далеко, а живут на нем люди чухчи добре много. Против того ж Носу, на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных, а не тот, что есть первой Святой Нос от Коломы. А тот большей Нос мы, Семейка с товарищи, знаем, потому что розбило у того носу судно служивого человека Ярасима Онкудинова с товарищи. И мы, Семейка с товарищи, тех розбойных людей имали на свои суды и тех зубатых людей на острову видели ж. А от того Носу та Анандырь река и корга далеко»[13].
Аргументация Семёна Дежнёва и Никиты Семёнова вполне прозрачна: притязающий на открытие «корги», Юрий Сильвестров не доходил вместе с Михайлой Стадухиным даже до Большого Каменного Носа (то есть восточной оконечности Чукотского полуострова с мысом Дежнёва), который «вышел в море гораздо далеко». При этом Дежнёв и Семёнов чётко указывают, что Большой Нос — это не то что первый Святой Нос, то есть мыс Шелагский, между которым и мысом Дежнёва никакого географического пункта, который мог бы претендовать на звание «большого носа» попросту нет. Затем жалобщики подчёркивают, что и от Большого Носа «река Анандырь» и корга далеко, и уж там Сильвестров, не доходивший и до Большого Носа, уж точно оказаться не мог.