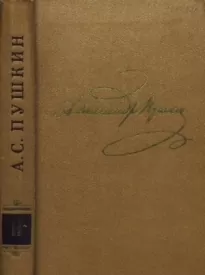Том 4. Стиховедение

- Автор: Михаил Гаспаров
- Жанр: Критика / Поэзия / Литературоведение / Языкознание
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Том 4. Стиховедение"
У Федора Сологуба был подражатель — поэт Иван Рукавишников, поэт не бездарный, но графомански многословный. Тавтологическая рифма была для него таким желанным поводом к разливанному словообилию, что стихи с повторяющимися рифмами и строками косяками пошли по его толстым томам. Это топтание на одних и тех же словах производит у него впечатление почти патологическое. Стихотворение «Остров-корабль», начало которого приводится здесь для примера (без двух последних строф), среди них еще наименее тягостное. Можно даже сказать почему: потому что здесь тавтологические рифмы наплывают не хаотически, как обычно у него, а все время в одном и том же порядке, и читатель заранее ждет: каким образом автор на этот раз мотивирует возвращение слова?
Пустынный остров. Где — не знаю
Меня забросил океан.
Тогда бесился ураган.
Тогда кругом висел туман.
Нигде ни проблеску, ни краю.
Погибли все на корабле.
И я один висел во мгле.
Висел — на чем и как — не знаю.
Со мною дрался океан,
И в уши бил мне ураган.
В мозгу забвенье, боль, туман.
Кругом ни проблеску, ни краю.
Порой фонарь на корабле,
Один фонарь мигал во мгле.
И утонул корабль. И знаю:
Не даст другого океан.
Живу. То тишь, то ураган.
Живу. То Солнце, то туман.
Живу. Не рвусь к родному краю.
Я на скалистом корабле
Живу — пою в жемчужной мгле…
Это стихотворение напоминает о самом удачном способе использования тавтологических рифм в европейской поэзии — о твердой форме под названием «секстина». Это шесть строф по шести строк, кончающихся на одни и те же слова, которые возвращаются в каждой строфе в новом (в отличие от стихотворения Рукавишникова), но строго определенном и поэтому тоже предугадываемом порядке. О секстине у нас будет речь в другом месте[378], а здесь упомянем о другом, не менее любопытном, но реже вспоминаемом случае. Вообразим себе, что каждая строфа произведения Рукавишникова — отдельное стихотворение. В каждом из этих стихотворений все рифмующиеся слова разные, тавтологических рифм нет. Но в целом цикле этих стихотворений пронизывающие его рифмы окажутся тавтологическими: между всеми первыми строками, между всеми вторыми и т. д. Иными словами, одна и та же рифма не тавтологична как элемент стихотворения и тавтологична как элемент цикла. Такие циклы в поэзии не редкость: это — все те стихи на заданные рифмы, которые одновременно пишутся несколькими людьми и называются «буриме» (что значит «рифмованные кончики»). Сейчас это забава, но в эпоху салонной поэзии XVII века ими увлекались всерьез, и весь маньеристический Париж участвовал в споре, который из двух модных поэтов лучше написал свой сонет на общие рифмы, Бенсерад или Вуатюр? Отголосок этой моды докатился и до нас: в 1761 году в журнале «Полезное увеселение» были напечатаны «Два сонета, сочиненные на рифмы, набранные наперед» (одним из авторов был знакомый нам А. Ржевский), а в 1790 году даже в дальнем Тобольске печатались восьмистишия на одинаковые рифмы, в которых полемизировали забытые стихотворцы Н. Смирнов и И. Бахтин. (Часть в первом стихотворении значит участь, а ничтожество — небытие, в котором человек находится до рождения; блажить здесь значит благословлять.)
Стихи на жизнь:
Увы! которые рождаетесь на свет!
Мой взор на вашу часть с жалением взирает;
И самой смерти злей собранье здешних бед,
В сей жизни человек всечасно умирает.
Из недр ничтожества когда б я мог то знать
И если бы Творец мне дал такую волю,
Чтоб сам я мог своей судьбою управлять, —
Не принял жизни б я и презрил смертных долю.
Возражение:
Я вижу, что тебе несносен этот свет, —
Но мудрый иначе на жизнь сию взирает.
Утехи видя там, где видишь ты тьму бед,
Спокойно он живет, спокойно умирает.
Ты прежде бытия хотел бы много знать
И выбрать часть себе — иметь желал бы волю;
На что?.. здесь волею умей ты управлять,
И будешь ты блажить стократно смертных долю.
Ответ:
Не много мудрецов рождается на свет;
Не всякий и мудрец без горести взирает
На бренну нашу жизнь, цепь вечных зол и бед;
Но в том уверен я, что мудрый умирает
Без страха и забот и не желает знать,
Правдиво то иль нет, что он имеет волю
Своею волею в сей жизни управлять;
И мысля так, не счтет блаженством смертных долю.
Как это часто бывает, забава здесь оказывается поздним отголоском формы очень серьезной, почти обрядовой. У всех народов в обычае состязание певцов; в трубадурском Провансе из него развилось состязание поэтов, в котором иногда один поэт сочинял возражение другому поэту на его же рифмы (тенцона). Из Прованса эта манера перешла в Италию XIII века, где поэт обращался к друзьям с сонетом-«пропосто» (предложение), а они отвечали ему сонетами-«риспосто» (ответ) на те же рифмы; еще у Данте в книге «Новая жизнь» к одному сонету приложены «риспосто» двух его друзей. В эпоху Возрождения эта манера вышла из употребления, но как стилизация мелькает на разных языках еще не раз; и даже у нас в 1909 году Ю. Верховский написал сонет о сборищах поэтов на «башне» у Вяч. Иванова, а его товарищи М. Кузмин и сам Вяч. Иванов откликнулись ему сонетами-«риспосто» на те же рифмы. Игра осложнялась тем, что Верховский подал друзьям свои стихи с недописанными строчками, и они должны были сперва угадать пропущенные рифмы, а потом уже писать на них ответы. (Башней квартира Иванова называлась потому, что была на высоком этаже и с полукруглой стеной, а Оры — это помещавшееся там маленькое домашнее книгоиздательство, названное так по имени греческих богинь времен года; Наперсница — это Муза.) Вот начала их сонетов:
Верховский:
Сроднился дух мой с дружественной Башней,
Где отдыхают шепчущие Оры.
С ночным огнем иль с факелом Авроры
В отрадный плен влекут мечтой всегдашней…
Кузмин:
Ау, мой друг, припомни вместе с «башней»
Ты и меня, кому не чужды «Оры».
Бывало, гость, я пел здесь до авроры,
Теперь же стал певуньею всегдашней…
Иванов:
Осенены сторожевою Башней,
Свой хоровод окружный водят Оры:
Вотще ль твой друг до пламенной Авроры
Беседует с Наперсницей всегдашней?..
Не нужно думать, что тавтологическая рифма способна производить только впечатление в лучшем случае томительности, а в худшем — скуки. Она может быть и веселой. У Дениса Давыдова есть стихотворная шутка под заглавием «Маша и Миша» — о двух его соседях по Пензенской губернии, которых всем знакомым очень хотелось поженить, но из этого так ничего и не вышло (настоящие их имена были Лиза и Гриша, в черновике так и написано, но Маша и Миша звучало забавнее):
Как интересна наша Маша!
Как исстрадалася по Мише!
Но отчего же ехать к Маше
Так медлит долговязый Миша?..
…Но станется и то, что Миша
Забыл о нашей бедной Маше.
И, может быть, неверный Миша
Целует уж другую Машу, —
Вы знаете какую, Миша!..
Мотивировка приема ясна: герои стихотворения так уж немыслимы один без другого, что даже рифмы в нем не могут выбиться из заколдованного круга. У таких шуток в европейской поэзии тоже есть почтенная традиция.
Но попробуем вообразить на месте смешных Маши и Миши такие несмешные слова, как жизнь и смерть, огонь и лед и т. п., — и мы почувствуем, что подобные стихи могут быть очень выразительными. Они писались: сонеты с рифмами жизнь — смерть есть в итальянской, испанской, французской, английской, немецкой поэзии XVI–XVII веков. А самая высокая мотивировка тавтологических рифм — не объясняемая, но подразумеваемая — конечно, в «Божественной комедии» Данте. Имя Бога нельзя произносить всуе и уж подавно нельзя рифмовать, потому что никакое слово недостойно с ним рифмоваться. Поэтому в «Аде» имя Христа не упоминается ни разу, в двух других частях поэмы — очень редко, а в рифме появляется всего раза два или три и каждый раз рифмуется (трижды, как положено в терцинах!) только с самим собой. Так эти места и перевел М. Лозинский — например в XII песни «Рая», где говорится, что не случайно св. Доминику, основателю доминиканского ордена, при рождении дали имя, которое означает «Господень»:
…И, чтобы имя суть запечатлело,
Отсюда мысль сошла его наречь
Тому подвластным, Чьим он был всецело.
Он назван был Господним; строя речь,
Сравню его с садовником Христовым,
Который призван сад Его беречь.
Он был посланцем и слугой Христовым,
И первый взор любви, что он возвел,
Был к первым наставлениям Христовым.
В младенчестве своем на жесткий пол
Он, бодрствуя, ложился, молчаливый,
Как бы твердя: «Я для того пришел…»
Итак, тавтология в рифме — это или тягостная навязчивость, или смешная путаница, или возвышенная внушительность; или — добавим в заключение — непринужденная простота. Самая простая и «естественная» поэзия — народная, детская — любит повторять целые строчки, а если не строчки, то хотя бы слова. У Чуковского в «От двух до пяти» есть примеры таких стихов, сочиненных детьми: «Город чудный Москва! Город древний Москва! Что за Кремль в Москве! Что за башни в Москве!» и т. д. Именно таким стихам подражал, конечно, Хармс, когда писал: «Самовар Иван Иваныч, На столе Иван Иваныч, Золотой Иван Иваныч» или «Раз, два, три, четыре, И четыре на четыре, И четырежды четыре, И еще потом четыре». А в европейской поэзии именно такая народная легкость тавтологии придает одному из самых знаменитых стихотворений Верлена ту трогательную простоту, из‐за которой оно непереводимо удовлетворительно ни на какой язык. Сологуб переводил его три раза (всякий раз сохраняя тавтологии); это — первый его перевод с маленькими изменениями.
Небо там над кровлей
Ясное синеет.
Дерево над кровлей
Гордой сенью веет.
С неба в окна льется
Тихий звон и дальний.
Песня птички льется
С дерева печально.
Боже мой! те звуки
Жизнь родит простая.
Кротко ропщут звуки,
Город оглашая:
«Бедный, что ты сделал?
Исходя слезами,
Что, скажи, ты сделал
С юными годами?»
У Баратынского есть нехитрое стихотворение «Цветок», в котором играют сразу все три названные нами ощущения: и простота сюжета (стилизация под французскую песенку), и тягостность для героини, и насмешливость для читателя:
С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
«Кому отдам цветок?
Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
Душистый мой цветок».
И говорил ей каждый встречный:
«Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок».
Она в ответ: «Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, я это знаю,
Другому мой цветок».
Красою яркой день сияет, —
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает, —
У девушки цветок!
Идет. Услада повстречала,
Он прелестью цветок.
«Ты мил! — она ему сказала. —
Возьми же мой цветок!»
Он что же деве? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?
Ты мне даришь его — не диво:
Увянул твой цветок».
У тавтологической рифмы есть спутник — рифма, которая как бы притворяется тавтологической, но на деле таковой не является, а только прикрывает рифму настоящую, разнословную, спрятавшуюся в глубину строки. Это — редиф, повторение одного и того же слова в конце строки после рифмы. По-арабски, говорят, редиф значит «седок за спиною у всадника»: всадник — это рифма, а седок — повторяющееся слово. В европейскую поэзию этот прием пришел, когда романтики стали интересоваться восточной поэзией: они начали охотно писать газеллы, а в газеллах редиф и на Востоке был очень популярен, в Европе же стал почти законом. Опираясь на этот опыт Рюккерта, Платена и других, у нас едва ли не первым употребил этот прием в переводах из Хафиза (сделанных с немецкого) Фет:
В царство розы и вина — приди.
В эту рощу, в царство сна — приди.
Утиши ты песнь тоски моей:
Камням эта песнь слышна! — Приди!
Кротко слез моих уйми ручей:
Ими грудь моя полна! — Приди!
Дай испить мне здесь, во мгле ветвей
Кубок счастия до дна! — Приди!..