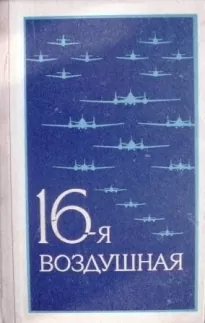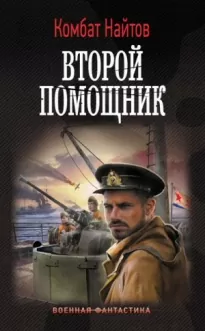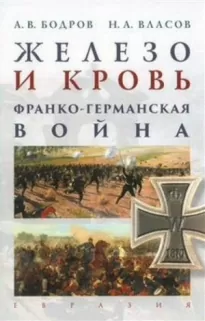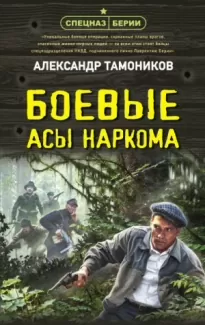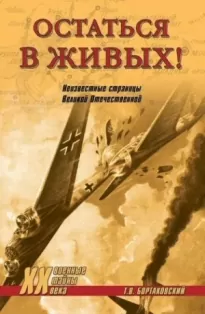Крепость тёмная и суровая: советский тыл в годы Второй мировой войны
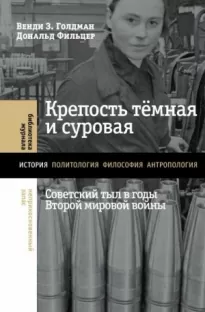
- Автор: Дональд Фильцер
- Жанр: Историческая проза / Военная проза / История России и СССР / Для старшего школьного возраста 16+
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Крепость тёмная и суровая: советский тыл в годы Второй мировой войны"
Однако и самым горячим приверженцам советской власти трудно было сохранить первоначальный оптимизм после летних поражений. Некоторые чувствовали себя обманутыми прежней пропагандой, сулившей легкую победу на чужой земле. Сотрудник бюро связи во флоте, наблюдая за успехами немцев, с горечью заметил: «Мы все время говорили, что на своей территории не допустим войны, а теперь все военные действия идут только на территории СССР». Не зная, кого упрекать и чем объяснить поражения, многие, в том числе и члены партии, винили руководство страны. Архангельский парторг сетовал, что правительство не говорило гражданам правды: «Со стороны нашего правительства были допущены хвастливые речи, что у нас неисчерпаемые запасы всего, что будем бить врага только на его территории, а на деле получается обратное»[1137]. Многих приводил в негодование пакт, обеспечивший врага ценными припасами. Один врач возмущался: «Наше правительство два года кормило немцев, лучше бы запасли продукты для своей армии и для народа, а то теперь всех ожидает голод»[1138]. Бывший член партии, слушая сводку об очередном отступлении Красной армии, язвительно намекнул на договор о «дружбе»: «Скоро Гитлер нашим коммунистам такую дружбу покажет, что не узнают, куда бежать»[1139]. Некоторые считали, что нападение застало страну «врасплох». Другие, сознавая лживость всей пропаганды после заключения пакта с Германией, не верили никаким новостям. Некий служащий рассуждал: «Немцы идут вперед очень здорово, почти не останавливаясь, теперь надо прямо сказать, что наши руководители занимались только болтовней, а не делом, уверяя всех, что наша армия сильно вооружена и непобедима»[1140]. Нагнетание негативного отношения к Великобритании и США в 1939–1941 годах тоже не прошло бесследно. Председатель одного колхоза усомнился, могут ли две эти страны считаться надежными союзниками. Транслируя точку зрения, преобладавшую после заключения пакта Молотова – Риббентропа (и позднее в годы холодной войны), он мрачно заявил: «Среди колхозников мне часто приходится слышать, что Гитлер победит, а реальной помощи от Англии и Америки, по-моему, ждать нечего. В конечном итоге они договорятся между собой»[1141].
Хотя мало у кого из советских граждан хватало безрассудства открыто обсуждать репрессии, некоторые объясняли поражения на фронте зачисткой армейской верхушки в 1937–1939 годах. Они выражались эвфемистически: «Неудачи Красной армии на фронтах являются результатом измены командного состава РККА»[1142]. Бухгалтер одной швейной фабрики заметил: «Дух нашей армии совсем упал. Наши войска сдают немцам города потому, что среди командного состава много измены»[1143]. Чистки и массовые репрессии влияли на восприятие и предположения обычных людей и в другом отношении. Председатель колхоза утверждал: «Я теперь просто в недоумении, почему Красная Армия отступает. Видимо, в Красной Армии имеется измена и предательство»[1144]. Повторяя расхожий штамп 1930‐х годов, он был уверен, что за любым поражением стоит «предатель». Он явно полагал, что зачистка армии оказалась недостаточной.
Как бы люди ни старались объяснить себе непрерывное отступление, из газет они получали мало информации. Один солдат расстроенно признался: «У меня со вчерашнего дня упало настроение. Пишут и говорят одно, а на деле получается другое. Говорили, что воевать будем только на чужой территории, а на деле сдают город за городом»[1145]. Партийные руководители еще не нашли способа объяснить потрясенному населению обрушившуюся на страну беду[1146]. Автор одного дневника описывает, как в разгар паники, охватившей Москву в октябре 1941 года, один старик на улице рассуждал вслух, ни к кому конкретно не обращаясь: он задавался вопросом, почему же ничего не объявили по радио, почему никто не сказал хоть что-то, хорошее или нет, неважно. Но люди оказались в непроглядном тумане – каждому приходилось решать за себя[1147].
Разрушительное взаимное непонимание между государством и народом особенно наглядно проявилось в Ивановской области, центре текстильной промышленности, где рабочие позднее взбунтовались против попыток местной администрации эвакуировать фабрики. В первые месяцы войны многим работникам текстильных предприятий сократили зарплату на 30–40 %, так как фабрики теперь изготавливали прежде всего материалы для военного обмундирования[1148]. Помимо трудностей, связанных с работой, резко сократился объем продовольственных поставок, и рабочие по всему региону угрожали забастовками. На фабрике имени Ногина работница презрительно отозвалась о пакте: «Гитлер хлеб-то ведь не взял, ему мы сами давали, а сейчас нам не дают, ему что-ли берегут?»[1149] Рабочих, в большинстве своем женщин с детьми, особенно возмущали щедрые пайки чиновников и начальства. Даже члены партии в цехах не горели желанием оправдывать сокращение продовольственных норм. После очередного скудного обеда один партиец собрал группу из пятнадцати рабочих и отвел их прямо к директору столовой. «Накормите их, – резко сказал он, – они голодные»[1150].
В августе и сентябре 1941 года текстильные фабрики захлестнула волна недовольства. В общей сложности около 450 рабочих восьми фабрик устроили стачку, протестуя против недостатка питания, сокращения зарплаты и проблем с производством. Кратковременные и легко подавляемые забастовки были вызваны страхом и голодом. Но некоторые парторги отмечали, что стачечные настроения разжигают «враждебные элементы». Рабочие группками собирались в умывальных, в коридорах и на лестницах, чтобы обсудить войну, послушать антисоветские анекдоты и обменяться слухами. Молодой комсомолец на фабрике имени Шагова сказал товарищу по работе и члену партии, что, если кто-то начнет забастовку, они готовы ее поддержать[1151]. Многие работники текстильных фабрик не понимали возрастающего влияния немецкой оккупации на снабжение, а поскольку местные партийные активисты ушли на фронт, некому было разъяснить им причины снижения продовольственных норм. В общежитиях жило более 2000 рабочих, но парторгов, которые могли бы ответить на их вопросы, не было, а печатных материалов, например стенгазет и плакатов, на заводе не имелось. Директор фабрики имени Шагова констатировал упадок духа среди рабочих: «За последнее время появились нехорошие настроения, люди распустились, ждут, чтобы их натолкнули и указали. На фабриках нет подъема, нет боевого духа, наоборот, упадок»[1152]. В отсутствие достоверной информации рабочие питались «различного рода неверными слухами, иногда явно контрреволюционными». Отмечалось, что «среди работниц распространены различного рода кривотолки»[1153]. Директор отметил, что некоторые даже задавались вопросом, не улучшится ли снабжение при фашистах. Аналогичным образом обстояло дело и на других текстильных фабриках. Даже самые простые вопросы ставили неопытных агитаторов в тупик. На вопрос работницы: «Победим мы или нет в борьбе с фашизмом?» – агитатор механического отдела фабрики имени 8 марта неопределенно ответил: «Трудно сказать, кто победит, но и по газетам ясно видно, что наши пока отступают»[1154]. Ответ был честным, но не слишком обнадеживающим.
Партийные руководители приложили немало усилий, чтобы наладить диалог. Организационно-инструкторский отдел ЦК отправил активистов, поручив им навести порядок: «Агитколлективы не работают, а в это же время по 3–4 человека работников горкома гастролируют ежедневно по фабрике, не зная, как и где применить свои силы»[1155]. Директорам фабрик позволили купить лошадей, чтобы ускорить доставку сырья, сократив таким образом количество простоев и повысив зарплаты[1156]. Пальцев, первый секретарь Ивановского обкома партии, разрешил в заводских столовых продажу хлеба за деньги (сверх норм, выдаваемых по карточкам), даже когда такая торговля уже была запрещена по всей стране, снял ограничения, не позволявшие детям получать «двойное» питание – в детских садах и по карточкам дома, – и отказался выполнять распоряжение, ставившее рацион рабочего в зависимость от выполнения им нормы выработки. Среди работников обкома его действия вызвали разногласия. Позднее в 1942 году заместитель Пальцева написал на него две пространные жалобы в ЦК, заявив, что тот «дискредитировал себя» в октябре 1941 года, когда шла эвакуация, и поэтому утратил авторитет в глазах рабочих. Автор писем гневно заявил: «Он это знает. А это сознание порождает в нем растерянность и неуверенность, страх, боязнь»[1157]. Он полагал, что Пальцев поторопился пойти рабочим навстречу. Жалобы проверили, но Пальцев остался на своем месте, а заместителя уволили[1158]. Наиболее гибкие местные чиновники, как и Пальцев, понимали, что рабочие терпят огромные лишения и что их поддержка много значит для фронта.
Ил. 14. Бомбы – «подарки» фашистам. Публикуется с разрешения РГАКФД.