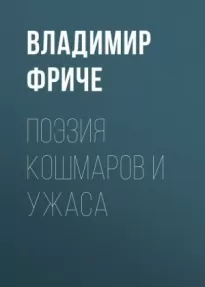Том 3. Русская поэзия

- Автор: Михаил Гаспаров
- Жанр: Критика / Поэзия / Литературоведение / Языкознание
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Том 3. Русская поэзия"
Петербургские строфы
Н. Гумилеву
Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.
А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка…
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
Итак, в первом стихотворении Мандельштам строил композицию из прихотливой последовательности кинематографических образов, во втором — литературных образов, в «Петербургских строфах» — исторических образов. Здесь их монтажное соединение труднее сразу заметить. Это стихотворение труднее для понимания, потому что требует знания некоторых бытовых и исторических реалий. Однако мы посмотрим сначала на то, что есть непосредственно в тексте или что очевидно для каждого читателя, даже неподготовленного. Мы видим ряд картинок. Первая — правовед возле правительственного здания важно садится в сани. Вторая — пароходы зимуют во льду. Третья — зимний Петербург над набережной, красивый и величественный. Четвертая — снег, костер и караул на Сенатской площади. Пятая — морская пристань с оперными мужиками. Шестая — самолюбивый бедный пешеход на улице большого города среди автомобилей. А за этими зримыми картинами еще два образа, не столь наглядные. Первый — аллегорическая огромная неподвижная Россия в порфире власяницы. И второй — онегинская тоска северного сноба. Сноб — высокомерный франт. Тогда это слово живое, а теперь, кажется, уже забываемое. Попробуем задаться простейшим вопросом: как все эти образы совмещаются в пространстве и во времени? Прочитаем стихотворение подряд, все время задаваясь вопросом, в каком месте и времени мы находимся. И вот здесь нам уже понадобятся исторические справки. Придется немножко выходить за пределы текста. Начинается стихотворение архитектурными образами:
Над желтизной правительственных зданий —
но николаевский ампир, сохранившийся от пушкинского времени, это то, что объединяет петербургское прошлое и настоящее. У Мандельштама этих лет, как знают все читатели, есть несколько стихотворений специально на архитектурные темы: «Notre Dame», «Айя-София», «Адмиралтейство», — но там здания были героями этих стихотворений, а здесь петербургская архитектура как бы только рамка, в которую вставлены две картины одновременно и просвечивают друг сквозь друга — картины настоящего и прошлого. «Правовед» — это современность. Училище правоведения в Петербурге существовало лишь с середины XIX века, было очень привилегированным для молодых карьеристов, поэтому его воспитанник — северный сноб. Из некарьеристов-выпускников этого Училища правоведения был Евгений Онегин. Что первая глава «Евгения Онегина» самим Пушкиным была названа «Хандра», я думаю, помнят многие. Онегин — образ из прошлого, но пока он здесь в стихотворении вспомогательный, только для сравнения привлеченный. Как начало стихотворения с «желтым ампиром» связывало прошлое с настоящим в первой строфе, так в четвертой строфе, где «площадь Сената», тоже ассоциативно связываются прошлое и настоящее. Упоминание Сенатской площади рядом с упоминанием об Онегине сразу напоминает русскому человеку о декабристах, особенно потому, что тут же упоминается штык. Но в то же время это и картина современности, картина 1913 года. Климат тогда был немного похолоднее, чем сейчас, и в холода на перекрестках раскладывались костры. У Анны Ахматовой есть строчки: «…И малиновые костры, словно розы в снегу цветут». А холодок штыка — это штык инвалида-гренадера, приставленного к памятнику. При памятнике, которыми богат Петербург, тогда полагалось дежурить часовым, ну, разумеется, из самых негодных, из стариков-инвалидов. Любопытная бытовая подробность: именно на Сенатской площади при Медном всаднике такой стражи почему-то не было. Обыгрывает это Мандельштам или не обыгрывает, не знаю, — как кому кажется.
Возвращаемся к вопросу, где тут прошлое, где настоящее.
«Онегина старинная тоска» была только сравнением, только намеком из Пушкина. Однако следующая, пятая строфа переносит нас уже в пушкинскую эпоху. Мужики, продающие сбитень или сайки. Сбитень — горячий медовый напиток — это примета пушкинского Петербурга. При Мандельштаме сбитень уже не пили и разносчики им не торговали. И что это Петербург прошлый, пушкинский, подчеркнуто словом «оперные бродят мужики». Разносчик в подчеркнуто русской одежде и полосатой, подпоясанной рубахе, шапка цилиндриком и прочее. Это был образ, тиражированный массовыми картинками и фарфоровыми статуэтками, которые в начале ХХ века были в ходу. Настоящие сайки тоже вышли к тому времени из употребления, еще Даль в своем словаре о ней сообщает, так что сайка здесь тоже признак старины. Наконец, «чайки морские посещали склад пеньки» — имеется в виду складская постройка на петербургских островах, которая называлась Пеньковый буян или Тучков буян. При Мандельштаме, кажется, это уже никакими складами не было, а воспринималось только как хороший архитектурный памятник, преимущественно той же пушкинской эпохи. Главный же контраст, показывающий, что в пятой строфе сцена меняется по сравнению с первыми четырьмя, — это смена зимы на лето. Ялики, понятно, ездят только летом. Ялики обслуживали Неву и Финский залив до Кронштадта — эта ассоциация с Кронштадтом не случайна, корабли в стихотворении упоминаются. Эти ялики работали и при Пушкине, и при Мандельштаме. Причудлив синтаксис этой строфы: «черпали» — прошедшее время, после настоящего времени предыдущих строф указывает вроде бы на смену времени, на то, что дело переносится в прошлое, но «где… лишь оперные бродят мужики», вместо ожидаемого «бродили мужики», сбивает время и оставляет читателя в неуверенности — прошлое это или настоящее? Таким образом, в первых четырех строфах у нас было настоящее время, но с подчеркнутыми ассоциациями с прошлым, через архитектуру, и через онегинское сравнение, и через Сенатскую площадь, а пятая строфа — про ялики и мужиков — скорее переносила нас в прошлое, хотя и с некоторыми сомнениями. В последней же строфе, наконец, обе эпохи сближаются и действительно сквозят друг сквозь друга.
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
Это бедный чиновник Евгений из «Медного всадника», одноименный с Евгением Онегиным, но не тождественный. Опять образ развивается: два Евгения сквозят друг сквозь друга. Но появляется он на современной улице с бензиновыми автомобилями — «моторов вереница». Мотор — обычное слово для автомобиля в начале века, причем автомобили на петербургских улицах стали сравнительно обычны только приблизительно с 1910 года, так что эта черта не только современности, но и сиюминутной современности. Так картина перед нами раздваивается не только во времени — на прошлое и будущее, но и в природе — зима и лето, и в обществе — в стихотворении присутствуют и Евгений-сноб, и Евгений-бедняк. Причем для всех знавших Мандельштама этот образ вдобавок автобиографичен, то есть получается еще одно измерение: Мандельштам действительно вел тогда образ жизни бедного богемного поэта, хотя Надежда Яковлевна Мандельштам в известных своих воспоминаниях категорически заявляла, что бедности он никогда не стыдился. Таким образом, перед нами как бы стереоскопическое изображение: один глаз видит один ряд образов, другой — иной, и они не вполне совпадают друг с другом.
Поскольку отведенное мне время закончилось, то ряд образов, где Россия в порфире, похожая на «броненосца в доке», и те ассоциации, которые вмешивались в этот монтаж образов, я уже анализировать не стану. Только попрошу у вас прощения за то, что так лихо обходился с кинематографом, пользовался его термином «монтаж» и другими, не будучи в этом ни в малейшей степени специалистом.
Вопрос: — «Петербургские строфы» посвящены Гумилеву. Чем это обосновано?
Ответ: — Неизвестно. Они в это время были товарищами по возникшему акмеизму. Мандельштам знал Гумилева как критика и руководителя школы, и уже только поэтому мог посвятить ему свое стихотворение, которое он считал хорошим и, вероятно, программным. Анна Ахматова потом утверждала нечто вроде того, что Гумилев с Мандельштамом были близкими друзьями, но это, скорее всего, ее ретроспективные фантазии.
В.: — «На площади Сената — вал сугроба, / Дымок костра и холодок штыка…» Я читала в одном исследовании, что Мандельштам обладал пророческим взглядом на происходящее, т. е. он предполагал какие-то вещи, которые с ним будут происходить в будущем. Не касается ли эта строка будущего Петербурга, 1917 года, ведь через четыре года там действительно были костры, которые жгли матросы?
O.: — Ну, костры были во все годы, у костров на площадях грелись и в 1913 году, и Ахматова еще до революции писала про «малиновые костры». Что касается того, что мысль о декабрьском восстании могла быть пророчеством об Октябрьской революции, — это вопрос, выходящий за пределы филологии. Я в области пророчеств не специалист. Может быть, важнее (простите, что спускаюсь с неба на землю), что, кажется, именно в 1913 году (или в 1912‐м) в журнале «Русская мысль» печатался роман Мережковского «Александр I», где все сводится к теме декабристов. Декабристов ощущали своими предшественниками либералы этого времени. Зинаида Гиппиус посвятила им выразительные стихотворения, так что роман Мережковского был свежей новинкой, а Гиппиус была, хотя и, как всегда, осторожной, покровительницей молодого Мандельштама, о чем часто забывают. Когда он, Мандельштам, был еще почти не печатавшимся поэтом, она послала его стихи Валерию Брюсову: «Посмотрите, не напечатать ли это в Вашей „Русской мысли“»? Рекомендательная записка была осторожненькая, кисло-сладенькая, на всякий случай, но рекомендовать кого-то кому-то — это для Гиппиус было неординарное поведение.
Реплика: — «Стрекочет лента…» в стихотворении «Кинематограф». Если я не ошибаюсь (кажется, об этом написано в книге Юрия Цивьяна), в то время только-только входило сравнение звука, который издавал проектор, со стрекотом.
O.: — Может быть. Я не знаю достаточно хорошо тогдашнюю газетно-журнальную литературу вокруг кинематографа и поэтому не могу сказать, было ли уже слово «стрекочет» тогда расхожим применительно к киноаппаратам или еще нет. Через десять лет, когда в начале 1920‐х годов Кузмин по-гриффитовски писал стихи о кино, то у него рефреном шла строка: «Стрекочет аппарат». По-видимому, к тому времени эта метафора уже вошла в язык, а как она ощущалась в 1913‐м, не решаюсь сказать. Спасибо за замечание. Октябрь 1997