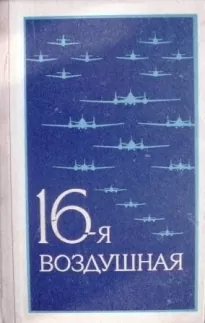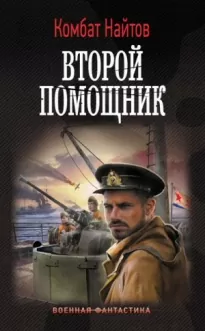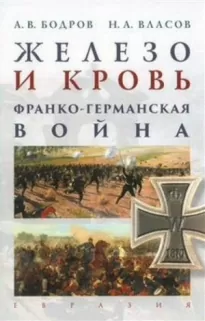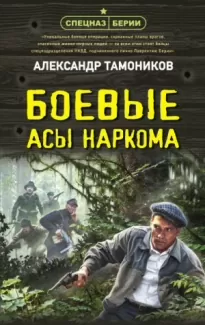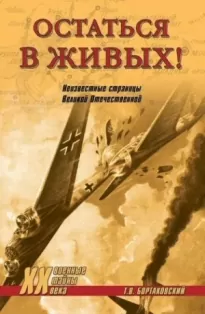Крепость тёмная и суровая: советский тыл в годы Второй мировой войны
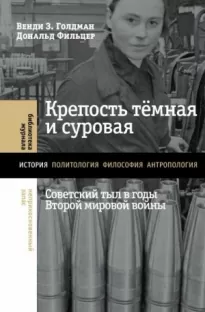
- Автор: Дональд Фильцер
- Жанр: Историческая проза / Военная проза / История России и СССР / Для старшего школьного возраста 16+
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Крепость тёмная и суровая: советский тыл в годы Второй мировой войны"
Однако государство по-прежнему делало ставку на труд мобилизованных рабочих для оборонных предприятий на востоке и восстановления освобожденных областей на западе. Массовое бегство с заводов ставило под угрозу производство, а ведь до конца войны было еще далеко. На растущий уровень дезертирства государство в 1944 году первоначально откликнулось попыткой принудить к исполнению закона, ускорив процесс расследования и суда и сократив отводимые на них сроки. 29 июня 1944 года Совнарком распорядился, чтобы руководители предприятий немедленно сообщали о случаях предполагаемого «дезертирства» в местную прокуратуру, прокуроры расследовали и передавали дела в военные трибуналы для разбирательства в течение трех дней после получения обвинений, а трибуналы проводили суды не позже чем через три дня после получения материалов дела от прокурора. Главное, что постановление запрещало заочные суды[971]. За ним последовала вспышка бурной деятельности, пусть и кратковременная. Директора предприятий, прокуроры и военные трибуналы поспешили избавиться от скопившихся у них материалов и передать дела в Прокуратуру СССР. Количество дел, поступающих в прокуратуру на местах, резко выросло – с 56 540 в среднем ежемесячно в период с января по март до 104 950 дел в июле. Трибуналы чаще выносили дезертирам обвинительные приговоры: с января по июнь 1944 года они осуждали в среднем 5925 дезертиров в месяц; в июле число обвинительных приговоров составило 12 384[972]. В целом количество найденных и арестованных дезертиров ненадолго, но существенно выросло[973]. Для тех несчастных, кого в результате поймали, последствия оказались трагическими. Задержанные в Рыбинске немногочисленные дезертиры, например, получили лагерные сроки от пяти до семи лет[974]. Особенно поражало неожиданно резкое сокращение огромного количества дел, отложенных после неудачных попыток местной милиции или прокуратуры установить имена и местонахождение беглецов. Прокуратура с гордостью заявила, что ее представители на местах уменьшили число подобных случаев с более чем 209 000 в июле до 22 900 в августе[975].
Впрочем, приступ энергичного исполнения закона вскоре прошел, а заявления об успехе оказались невероятно преувеличенными, чтобы не сказать совершенно беспочвенными. В реальности количество дел, от которых военные трибуналы отказывались, и без того значительное, только выросло. После июньского постановления, с июля по ноябрь 1944 года, трибуналы вернули для доследования 20,2 % дел, полученных из местной прокуратуры, а еще 3,8 % закрыли, вынесли по ним оправдательный приговор или переквалифицировали обвинение на менее тяжкое, так что доля отвергнутых дел выросла до 24 % и даже превысили мартовские показатели[976]. Данные по пятнадцати крупнейшим промышленным регионам РСФСР показывают, что за тот же период властям удалось арестовать только 25 % дезертиров, материалы на которых поступили недавно, зато число осужденных дезертиров, остающихся на свободе, снова начало расти[977]. Более того, дезертиры стали активно пополнять штат заводов, шахт и торфодобывающих предприятий на западе СССР. Теперь постановление привело к конфликту между прежними и новыми руководителями в борьбе за трудовые ресурсы. В конце июля 1944 года, когда с момента выхода постановления не прошло еще и месяца, Г. Топоров, возглавлявший отдел общего надзора Прокуратуры СССР, сообщил, что милиция арестовала более 2000 дезертиров, работавших на угольных шахтах и добыче торфа в Сумской области (Украина). Это были не единственные дезертиры в регионе, а лишь те, кого поймали. Но одобрение в адрес милиции быстро сменилось другими настроениями. Обком партии сразу же выступил против арестов: оказалось, что торфодобывающие предприятия в области полностью зависят от рабочих, бежавших с оборонных заводов. Если этих рабочих арестовать, заготовку торфа пришлось бы остановить. Что еще хуже, руководителей торфозаготовок тоже арестовали за укрывательство дезертиров – неприемлемое последствие все того же постановления. Обком партии попросил смягчить подход и преследовать только злостных дезертиров (то есть тех, кто совершал побег неоднократно и отказывался работать на новом месте). Но Топорова беспокоил не только этот вопрос. В Прокуратуре СССР понимали, что, если все разбирательства будут происходить согласно закону, военные трибуналы в Сумской области вскоре попросту не справятся с таким объемом дел[978].
Сумская область была относительно небольшой и не играла особой экономической роли, но вопрос, как поступать с дезертирами, поступившими на работу в другом месте, имел значение для всей страны. В августе 1944 года К. П. Горшенин, недавно назначенный Прокурор СССР, написал Молотову с предложением изменить тактику. Горшенин сделал акцент не на дезертирах, а на более узкой группе, к которой государство, похоже, проявляло бо́льшую терпимость: к рабочим, дезертировавшим, но затем добровольно возвращавшимся на предприятия, откуда они бежали. В качестве примера он привел Ставропольский край, где местные власти на 20 июля 1944 года выявили 1250 дезертиров. В основном речь шла о девушках в возрасте от семнадцати до двадцати четырех лет, в начале 1944 года мобилизованных из местных колхозов на работу в Донбассе, Сталинграде, на Урале и в Подмосковье. Нескольких судили заочно, но только после их возвращения на брошенные ими заводы. По закону бывшие дезертиры, вернувшиеся на место работы, все равно подлежали суду за нарушение указа от 26 декабря 1941 года и, если их признавали виновными, получали солидный тюремный или лагерный срок. Горшенин подчеркнул, что местные партийные органы и советы не видят смысла в таких мерах. Если работник добровольно вернулся на первоначальное место работы или, дезертировав, устроился на другое оборонное предприятие и там добросовестно выполнял свои обязанности, судить его за дезертирство или приводить в исполнение уже вынесенный приговор означало лишь терять трудовые ресурсы и отбивать у других рабочих желание вернуться. Работники партийных организаций и советов на местах полагали – и Горшенин соглашался с ними, – что таких рабочих надо отправлять обратно на предприятия, с которых они бежали, и что по прибытии военный трибунал должен был заменить им реальный срок на условный или классифицировать их нарушение не как «дезертирство», а как прогул, согласно указу от 26 июня 1940 года наказываемый временным вычетом из зарплаты[979].
Неизвестно, как Молотов отреагировал на обращение Горшенина. Однако отдельные военные трибуналы начали действовать так, будто предложения Горшенина уже приняты на законодательном уровне. В то время как некоторые продолжали рьяно следовать июньскому постановлению, другие либо позволяли дезертирам остаться на новом месте работы, либо смягчали приговор тем, кто возвращался добровольно. Например, орудийный завод № 92 в Горьком получил многочисленный контингент рабочих, мобилизованных из Сталинграда и стремившихся после освобождения города вернуться домой. Начальство в Горьком отказалось их отпустить, но рабочие все равно уехали, и их родной завод в Сталинграде с готовностью принял их обратно. Когда руководство горьковского завода воспротивилось, областной военный трибунал просто отказался возбуждать дело, заметив, что все рабочие добросовестно трудятся на прежнем месте работы. Дальнейшие обращения в прокуратуру Сталинграда также ни к чему не привели. Рабочие остались в Сталинграде[980]. Военный трибунал в Горьком пошел гораздо дальше осторожных предложений Горшенина: не смягчил приговор или настоял на возвращении, а отказался от преследования дезертиров из своего региона, так как они работали на других предприятиях.
Уже осенью и в начале зимы 1944 года судебная практика стихийно перешла от репрессивных установок июньского постановления к фактическому признанию того, что дезертирство – и укрывательство дезертиров – никуда не денутся, пока существуют условия, побуждающие мобилизованных рабочих бежать. Прокуроры в отчетах снова начали подчеркивать, что эти рабочие переживают небывалые лишения, а в нескольких исключительных случаях судебные органы даже устроили процесс над директорами предприятий, получившими большие сроки за халатность и злоупотребления[981]. В то же время ни прокуратуре, ни местным чиновникам не удавалось разыскать беглецов. Людей мобилизовали из всех республик и областей страны, а прокуратура на местах просто не располагала достаточным количеством сотрудников, средствами и возможностью работать в таких масштабах, чтобы вести поиски в радиусе тысяч километров во всех направлениях. Так, энергичные прокуроры из Магнитогорска разослали распоряжения о проведении поисков по Удмуртии, Сталиноградской области Казахстана, Одесской области Украины и ряду областей РСФСР: Смоленской, Саратовской, Тульской, Ростовской, Орловской, Московской, Тамбовской и Кировской. Ни в одном из регионов поиски не увенчались успехом[982]. Районные прокуроры не получали содействия со стороны коллег, даже когда искали дезертиров в собственном или соседнем регионе. В октябре 1944 года прокуратура Калининского района Дзержинска, второго по величине города Горьковской области, разослала почти 150 распоряжений о розыске дезертиров, о которых было известно, что они еще не покинули область, но едва ли кого-то из них нашли. Аналогичным образом прокурор Копейска, расположенного посреди угольных месторождений Челябинской области, разослал сорок шесть распоряжений о розыске «дезертиров» в соседней Курганской области, но курганские власти не исполнили ни одного. Неудивительно, что попытки напасть на след дезертиров еще дальше – в Одессе, Молдавии или Орле – терпели столь же очевидную неудачу[983].
Репрессивное июньское постановление оказалось во всех отношениях бесполезной мерой. Постановление от 29 июня было в конечном счете последней отчаянной попыткой государства пресечь незаконный отток рабочей силы и способствовать мобилизации и милитаризации труда. Государство стояло перед выбором: либо продолжать тратить скудные ресурсы прокуратуры и милиции на бесплодную погоню за трудовыми дезертирами, либо найти способ урегулирования ситуации. 30 декабря 1944 года правительство объявило частичную амнистию трудовых дезертиров, спасенных таким образом от ареста или тюремного заключения, и полную амнистию всех рабочих, бежавших с предприятий вопреки указу от 26 декабря 1941 года, если они уже вернулись или вернутся добровольно к 15 февраля 1945 года[984]. В новом законе не упоминались те, кто нашел работу в другом месте, поэтому он лишь частично признавал масштабы дезертирства, меняющееся настроение рабочих, рекомендации самой Прокуратуры СССР или стратегии местных прокуроров и чиновников на практике. Цель амнистии состояла в том, чтобы побудить сотни тысяч продолжавших скрываться дезертиров вернуться на предприятия, откуда они бежали. Но такое ограниченное признание проблемы сохранялось лишь на протяжении полугода. 7 июля 1945 года по случаю победы над нацистской Германией правительство объявило общую амнистию обвиняемых в ряде преступлений, включая любые нарушения указа от 26 декабря 1941 года[985]. Все судебные разбирательства по делам еще не задержанных трудовых дезертиров были приостановлены, всех, кто уже отбывал срок за нарушение указа, освободили, а со всех осужденных (вне зависимости от того, находились ли они в заключении), сняли судимость. Короче говоря, 7 июля 1945 года все случаи трудового дезертирства были сброшены со счетов. Однако указ от 26 декабря 1941 года остался в силе, породив новую цепочку бесплодных преследований и бегств. Для восстановления страны в послевоенные годы рабочих, в первую очередь сельскую молодежь, продолжали мобилизовать для работы в регионах и на промышленных предприятиях, где условия оставались невероятно тяжелыми. Учитывая страшные потери на фронте, огромный урон, нанесенный стране нацистами, и назревающую холодную войну, государству требовалось, несмотря на острую и все растущую нехватку рабочей силы, срочно отстроиться и вооружиться заново. Трудовое дезертирство не исчезло, но местные прокуроры, ответработники и милиция, особенно в деревнях, утратили интерес к преследованию беглецов. Круг разомкнулся только в 1948 году, когда правительство наконец аннулировало указ от 26 декабря 1941 года и сопутствующие указы, относившиеся к железнодорожному и водному транспорту[986].