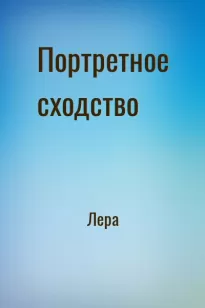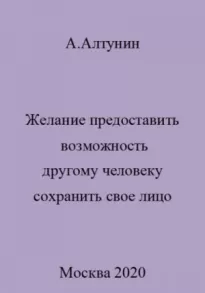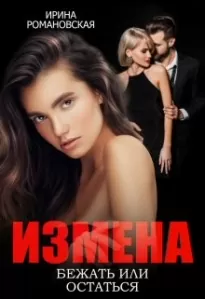Заговор букв

- Автор: Вадим Пугач
- Жанр: Критика / Языкознание / Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2017
Читать книгу "Заговор букв"
Бегство из империи (комментарий к одному стихотворению О. Мандельштама)
Одна из ключевых тем Мандельштама 20–30-х годов – определение своего места в потоке российской истории – до- и постреволюционной. Иезуитский вопрос позднего Горького «С кем вы, мастера культуры?» (1932) поэт все время задает себе сам, еще до этой недоброй памяти статьи. И то пытается уговорить себя в собственной «советскости» («Сумерки свободы», 1918; «1 января 1924», 1924), то с ужасом осознает, что ничего общего у него с новой Россией нет, а все связи уходят в прошлое («В Петербурге мы сойдемся снова…», 1920; «Ленинград», 1930). Одно из самых «петербургских» стихотворений – «С миром державным я был лишь ребячески связан…» – тоже об этом, и в нем Мандельштам колеблется, пытаясь найти какую-то приемлемую для себя точку опоры в настоящем.
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья –
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
Первый поэтический тезис этого текста – отталкивание от образов имперского Петербурга. «Мир державный» – это детские воспоминания о вызывающих испуг знаках прошлого. Комическая реплика о страхе перед устрицами – самоирония (легко представляем себе избалованного своими еще не разорившимися родителями героя, который не справляется с аристократической пищей, требующей некоторых аристократических же навыков); упоминание собственного взгляда «исподлобья» на гвардейцев – а гвардейцы более официозный знак имперского режима, чем устрицы, – это уже рост напряжения, обозначающего внутреннюю чужеродность поэта империи и старому Петербургу. Третья и четвертая строки развивают тему конфликта героя и империи. Эмоциональное отречение Мандельштама чем-то напоминает нервное, близкое к истерике отпихивание блоковскими двенадцатью олицетворяющего старый мир пса.
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой,
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Мандельштам продолжает перечислять неприятные для него, но такие сочные детали «буржуйской» жизни. Топосы этой жизни – банк, ресторан, то есть все, что связано с богатством, роскошью, привычкой иметь и тратить деньги. Образы денежного воротилы и пляшущей цыганки ярки, но не менее ярки и те образы, которые встают за строчками. Например, «лимонная» Нева не только говорит о вечерних отблесках солнца на реке за окном ресторана, но и отчасти возвращает нас к устрицам… Правда, не вполне понятно, что означает двойное «никогда», так как возникают возможности разных интерпретаций: то ли это все такое же нервное отречение от прошлого, то ли тщательно скрываемая тоска по несбывшейся мечте, то ли то и другое разом.
Однако в третьей строфе нас ждет неожиданный поворот:
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних – от тех европеянок нежных –
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Резко меняется место действия, отречение приобретает географический характер. Однако отрекается Мандельштам уже не от прошлого – от настоящего и будущего. Бегство поэта на юг – от революции, голода, блокады, страшного Блюмкина с его чекистским наганом (это, правда, деталь не петербургская, а московская, но вполне подверстывается к предыдущим) – мифологизируется и подается именно как бегство из жизни в культуру. Но, как говаривал Обломов, «трогает жизнь, везде достает». Путь на юг, в Крым – это не только способ укрыться в удобной и с детства обжитой античности, но и невзаимные влюбленности (например, в Саломею Андроникову), и ссора с Волошиным, и непродолжительное, но такое тюремное заключение при режиме Врангеля. Собственно, в стихотворении из всего этого набора звучит только тема несчастных любовей. И это диктует вопрос: как соотносятся между собой эта тема и тема отношений с городом, остающимся, несмотря ни на какие события, имперским по духу? Неужто нежная, домашняя античность так же отторгает поэта, как и петербургский официозный холод? Во всяком случае, как это следует из четвертой строфы, она оказывается ему не родней и не ближе Петербурга:
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее –
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!
Это значит, что мысли и чувства героя заняты исключительно Петербургом; Крым в этом смысле не принял его потому, что и сам он для поэта – лишний, избыточный. Что же касается социальных или других катастроф (пожары, морозы…), то характер города от этого не меняется. Каждый из четырех эпитетов («самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый») может быть истолкован многократно, и поэтому мы дадим только поверхностные, напрашивающиеся значения.
Самолюбивый – привыкший к самолюбованию, самодостаточности (см. противостояние в пушкинском «Медном всаднике» эстетической самоценности города и несчастья отдельного героя).
Проклятый – этот эпитет предлагаем толковать в прямом значении и связываем его с легендарным проклятием отставной царицы Евдокии («Петербургу быть пусту»).
Пустой – безлюдный. Если это воспоминание о 1920 годе, то город тогда действительно опустел (по мнению некоторых петербуржцев-ленинградцев, Петербургу вообще, в отличие от Москвы, идет безлюдность). Если это «прямое включение» в 1931 год, то, пока рос населением Ленинград, Петербург для Мандельштама действительно мог обезлюдеть (сравним со знаменитым «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», где Петербург и Ленинград – на уровне речных фонарей – существуют как бы параллельно).
Моложавый – этот эпитет имеет отношение к «полупочтенному» возрасту Петербурга, слишком юному по европейским и русским меркам.
Однако самой загадочной в этом стихотворении, пожалуй, является последняя строфа:
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
– Лэди Годива, прощай… Я не помню, Годива…
Мотив английской легенды о Годиве – жене сеньора города Ковентри графа Леофрика – кажется слабо связанным с предшествующими строфами. Попробуем предположить, что могло натолкнуть автора на воспоминание об этой легенде. Леди Годива, по преданию, выступила защитницей прав подданных своего сурового мужа. Он согласился исполнить ее просьбу об уменьшении налогового бремени на жителей города, если она проедет по Ковентри обнаженной. Ради горожан Годива пошла на это, и глубоко почитавшие ее ковентрийцы закрыли ставни, чтобы не видеть унижение любимой госпожи. Через несколько веков после событий у легенды возникает дополнительный мотив: один из горожан все же не удержался и приоткрыл окно. В наказание за это он ослеп. Герой Мандельштама, конечно, не жил в Ковентри во времена Леофрика, но схож с персонажем из легенды тем, что, как и он, видел эту самую картинку и таким образом как бы предал демократический союз между третьим сословием и сочувствующей этому сословию вплоть до жертвы Прекрасной Дамой. Последнее отречение лирического героя в стихотворении – это отречение от собственного предательства.
Подводя итоги, можно сказать, что Мандельштам совершает очередную попытку отвергнуть имперское (воплощением имперского и служит образ Петербурга) в себе, но заканчивает тем, что констатирует собственную измену демократическим, антиимперским идеалам и желание забыть эту измену – и, судя по всему, невозможность ее забыть.