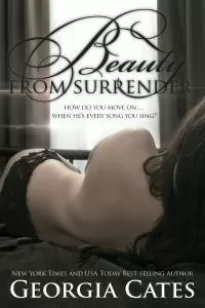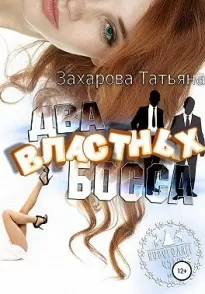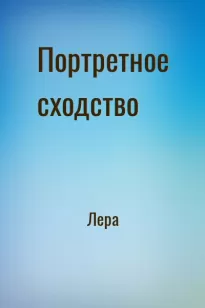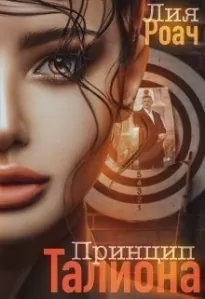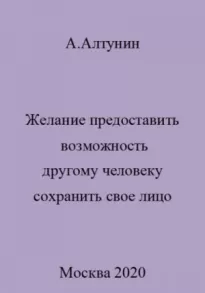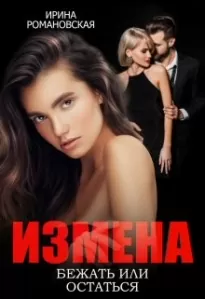Заговор букв
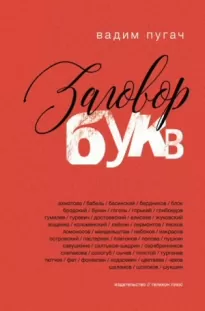
- Автор: Вадим Пугач
- Жанр: Критика / Языкознание / Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2017
Читать книгу "Заговор букв"
Индустриальный пейзаж в рассказе М. Горького «Челкаш»
Ранние рассказы Горького насквозь идеологичны; многие откровенно служат иллюстрациями и, надо признаться, яркими, но безвкусными иллюстрациями идей Ф. Ницше. Влияние Ницше на Горького глубоко и постоянно – вплоть до фасона усов. Но сводить философию Горького только к Ницше было бы неправильно; во-первых, есть и другие влияния и увлечения, во-вторых, и сам Ницше течет по одному общему с Горьким романтическому руслу. В этом смысле весьма характерен пейзаж в начале рассказа «Челкаш», выведенный за рамки повествования и служащий как бы философским предисловием, но таким, в котором уже содержится вся соль сюжета.
Первый же абзац обозначает важный для любого романтика конфликт природы и цивилизации. На стороне природы – «голубое южное небо», «жаркое солнце», «волны моря». Но «потемневшее» небо «мутно»; солнце «почти не отражается в воде», потому что не может пробиться сквозь пыль и бороздящие волны суда разного калибра; волны, «закованные в гранит», «подавлены громадными тяжестями» и загрязнены «разным хламом». Цивилизация давит и гнетет природу; стихия отвечает глухим бунтом: волны «бьются и ропщут». Все симпатии автора на стороне стихии, ценности цивилизации обозначены емким словечком «хлам».
Если не заглядывать в древность, когда городская жизнь часто осуждалась как жизнь греховная и нечистая, когда возник впечатляющий образ «города грехов», воплощаемый то в Содоме, то в Вавилоне, то в Риме (а заглядывать в эту древность мы не будем, потому что это совсем иная проблематика), а в другой культурной традиции возник жанр идиллии с его идеализацией «естественной» жизни, то первым из предшественников Горького на пути осуждения цивилизации как носителя зла был, несомненно, Ж.-Ж. Руссо. Именно его реакционные (не в оценочном, а в буквальном смысле этого слова) идеалы были подхвачены романтиками, уводившими своих героев от растленной цивилизации к прекрасной природе. Горький нисколько не оригинален: уроки пушкинских «Цыган» и лермонтовского «Мцыри» он усвоил хорошо. Однако в следующем абзаце избитый мотив противопоставления природы и цивилизации получает новое дыхание.
Весь абзац состоит из одного громоздкого предложения, в котором звучит (кстати, все предложение исключительно «звучащее» по содержанию и форме) новая мысль: не только природа перманентно бунтует, но и порождения цивилизации изготовились к мятежу против человека. Цивилизация, конечно, делает свое закрепощающее дело. «Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов» исподволь продолжает тему закованной и подавленной природы; внутренняя форма слов действует на читателя помимо их предметного значения. Но в противовес этому «оглушительная музыка трудового дня» вмещает и другое, например «вопль железных листов» и мятежное колыхание звуков. Похоже, от цивилизации (читай – от человека) страдает само олицетворенное железо, а «волны звуков» музыки трудового дня готовы слиться с волнами моря. Они «рвут пыльный знойный воздух», в то время как морские волны «бьются и ропщут»: автор лексическими средствами нагнетает картину близящегося мятежа. Но тут нас ждет еще один поворот.
«Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию». Конечно, Меркурий – бог не только торговли, но и воровства (тема воровства в рассказе очень важна), и содержательно эта фраза уместна; но что-то фальшивое, если не пошлое, есть в интонации романтика, обращающегося к классицистской аллегории. Однако содержание фразы и вправду интересно. В ней представлена иная, чем в предыдущем абзаце, конфигурация: люди и созданные ими вещи в едином цивилизационном порыве исполняют гимн. А в гимне, даже в гимне демократической молодежи, всегда преобладает прославление, а не отрицание – такова природа жанра. И в самом мятежном гимне утверждающее, догматизирующее начало важнее революционного. Бунт вещей, по Горькому, сказался не в прямом отрицании ими человека, а в постепенном захвате власти над людьми. «Жалкие», «смешные», «слабые» люди создали цивилизацию, в которой хозяйничают не они, а созданные ими и несоразмерные человеку предметы – «железные колоссы» пароходов, «груды товаров», «гремящие вагоны». Человек превратился в слугу своего творения. «Созданное ими (людьми. – В. П.) поработило и обезличило их».
Тут уже перед нами не только Руссо. Тут и романтики с их страхами перед обезличивающим влиянием вещей и денег, и Маркс с его теорией отчуждения от человека продукта его труда, в сущности, тоже романтической, по крайней мере, дающей повод для романтического восприятия и истолкования. Но и это не всё из багажа идей, которые приготовил нам автор.
«Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей…» Трижды на протяжении двух абзацев Горький называет людей смешными, к этому добавляются эпитет насмешливая и слова «целая поэма жестокой иронии». Вспомним одну из главных тем фантастической литературы ХХ века: умные, мощные и лишенные всяких моральных соображений роботы свергают своих творцов и уничтожают или порабощают их. И Горький с его полумарксистскими, полуанархистскими мыслями о труде, обращающем человека в рабство, выглядит звеном, соединяющим романтический страх перед наступившим капитализмом и ужас фантастов перед тем, что человек не удержит бразды правления прогрессом. Остается только (в духе Горького) прибегнуть к мифологическому образу несчастного Фаэтона, подобно которому человечество ХХ века не удержало только что обретенную власть над атомом.
Но Горький и не думает никого пугать, напротив, обозначив основные линии разлома (природа – цивилизация, цивилизация – человек, человек – природа), он, как и многие деятели Серебряного века, предсказывает катастрофу не с тревогой, а с надеждой: «Шум – подавлял, пыль, раздражая ноздри, – слепила глаза, зной – пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно…»
Настораживает только то, что картина после катастрофы подозрительно напоминает ощущения единственного человека в земном раю. Антииндустриальный, антикапиталистический пафос писателя оборачивается тоской по простоте первобытного существования Адама. А такая тоска всегда означает не надежду на будущее, а страх перед вызовами настоящего. Правда, последний абзац все-таки оставляет загадку.
«Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это – наступило время обеда».
Как понять сочетание «дикая музыка труда»? Как вообще дикость сочетается с цивилизацией в художественном пространстве рассказа? Может быть, автор ошибся с эпитетом? И если цивилизация «ропщет» на человека вместе с природой, то почему человек ищет освобождения от цивилизации в союзе с природой? Как разобраться в этом комплексе идей и эмоций?
Думается, что читателя должно обнадежить именно это. Дай писатель ответы на все вопросы в прелюдии к рассказу – и чем тогда оправдать существование еще тридцати страниц?