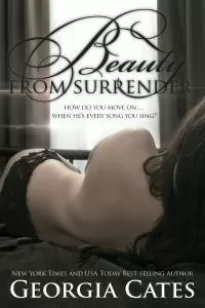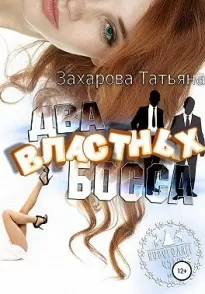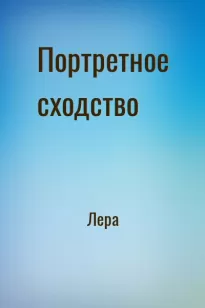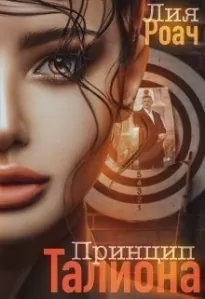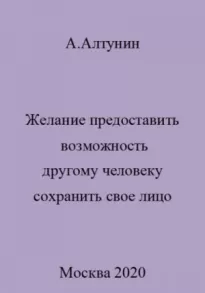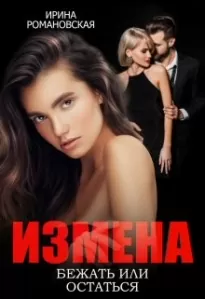Заговор букв
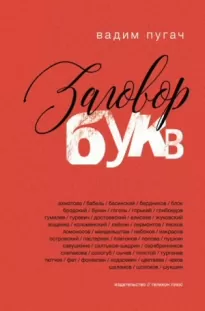
- Автор: Вадим Пугач
- Жанр: Критика / Языкознание / Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2017
Читать книгу "Заговор букв"
Рассказ М. Зощенко «Аристократка»: сатирический гуманизм
В «Аристократке» два рассказчика: автор и Григорий Иванович. Автору принадлежит единственное и вполне нейтральное предложение, служащее буквально словами автора при прямой речи героя-водопроводчика: «Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать…» Конечно, какая-то информация о Григории Ивановиче становится известна нам не из его уст, а из уст автора, но никакой заведомой оценки, как, например, это было у Чехова в «Хамелеоне», она не содержит. Мы понимаем, что герой, раз он шумно вздыхает, расскажет сейчас что-то, связанное с серьезным для него переживанием, но не знаем, насколько серьезным посчитает это переживание автор. Мы понимаем, что герой, раз он вытирает подбородок рукавом, не получил аристократического воспитания, а название рассказа нам уже известно. Учитывая пол Григория Ивановича, можно догадаться, что речь пойдет о каком-то, видимо, любовном конфликте между водопроводчиком и аристократкой. Добавим еще, что имя и отчество водопроводчика нейтральны и исключают всякую оценочность.
Гораздо больше говорит о Григории Ивановиче его собственная речь: «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место». Здесь господствует просторечие. Таковы обращение к собеседникам («братцы мои»), синтаксис («не люблю баб, которые в шляпках»), лексика («баба», «ежели»), употребление форм слов («у ней на руках»), тяготение к уменьшительным суффиксам («шляпка», «чулочки», «мопсик»), фразеология («не баба, а гладкое место»). Он сразу противопоставляет себя «аристократкам», называя социальные приметы женщины, не могущей вызвать его симпатию. Однако эти приметы определяют не столько аристократку, сколько то, что понимает Григорий Иванович под аристократизмом, а именно чуждый его пролетарским вкусам мещанский или буржуазный быт.
«А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме».
А вот тут содержится новая социальная и речевая информация о герое и времени. Едва ли за десять лет до этого (до эпохи войн и революций) Григорию Ивановичу пришло бы в голову ходить в театр, тем более с «аристократкой». Знаком времени становится и оборот «развернуть идеологию во всем объеме», рожденный новой пропагандой.
Первый диалог между Григорием Ивановичем и аристократкой трогателен до чрезвычайности:
«– Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера?
– Я, – говорит, – из седьмого.
– Пожалуйста, – говорю, – живите».
Переход от «ты» к «вы» означает, надо полагать, растущие симпатию и уважение, а разрешение жить, не входящее по статусу в компетенцию водопроводчика, служит своего рода сигналом: Григорий Иванович берет социально чуждую «этакую фрю» под свое пролетарское покровительство. Герой в своих ухаживаниях нетороплив, но не в силу флегматического темперамента, а в силу присущей ему необыкновенной тактичности, которой трудно ожидать от такого человека. Понимая, насколько далеки они друг от друга, насколько дичится его новая знакомая, Григорий Иванович целый месяц приучает ее к своему виду: «Зачастил я к ней… Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
– Да, – отвечает, – действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц – привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович».
Не исключено, что внезапный переход на «вы» в первом разговоре тоже был вызван чувством такта: увидев испуг собеседницы, герой переходит на более приемлемый для нее уровень общения – так называемый культурный. Далее терпеливый и тактичный Григорий Иванович приступает к следующему этапу сближения: «Дальше – больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать – не знаю, и перед народом совестно».
У каждого из них свои представления об ухаживании. Какое-то время он старается играть по ее правилам, хотя видно, как ему тяжело. Нелепость их союза вполне передана через нелепое же сравнение «волочусь, что щука» (на крючке?). Дама же настолько входит во вкус, что перехватывает инициативу и тут впервые проявляет себя:
«– Что вы, – говорит, – меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, – говорит, – как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр».
Выясняются интересные вещи. Например, речь «аристократки» (дальше это многократно подтвердится) ничем не отличается от просторечия Григория Ивановича. В дополнение к «аж голова закрутилась» мы получим еще и «мы привыкшие», и «довольно свинство с вашей стороны», и «которые без денег – не ездют с дамами». Значит, культурного и, по большому счету, социального барьера между ними нет. Но представления об отношениях мужчины и женщины почему-то разные, причем именно в культурном и социальном плане. Один воспринимает, условно говоря, культурную модель «мужик и баба», другая – «кавалер и дама». Мужики с бабами под ручку по бульварам и тем более по театрам не ходят. Они сидят на завалинке, лузгая семечки, и посещают народные гулянья (в новых условиях – митинги и демонстрации; впрочем, можно приобщиться и к важнейшему из искусств – сходить в кино). Кавалерам и дамам положено прогуливаться, демонстрируя наряды и церемонно здороваясь со знакомыми, а вечером можно сходить и в театр. «Аристократка» характеризует Григория Ивановича двояко: «кавалер и у власти». Первая характеристика относится к старомодной, дореволюционной культурной модели, вторая – к новой, когда, согласно большевистской демагогии, власть принадлежит пролетариату. Реально же власть Григорию Ивановичу принадлежит ровно настолько, чтобы через «комячейку» получить пару ненужных ему в любом другом случае бесплатных билетов в оперу. Как видно, эта характеристика не только двойственна, но и противоречива, потому что дама легко объединяет понятия, разделенные исторической границей 1917 года.
Поведение в театре раскрывает «в полном объеме» прежде всего личность Григория Ивановича. Он галантно (кавалер все-таки) уступает даме билет в партер, а сам садится на галерке. В театре ему, естественно, скучно. Единственный интерес – «аристократка», на которую он иногда посматривает, перегибаясь через барьер. Вообще этот барьер, перегнувшись через который, герой «хотя плохо», но может увидеть героиню, носит, возможно, метафорический характер. Чувства, которые он к ней испытывает, пусть неглубоки, но искренни. Он честно старается ей угодить: развлекает светской беседой о водопроводе, тактично предлагает «скушать одно пирожное», за которое собирается заплатить. Все складывается неплохо, Григорий Иванович почти дотягивает до роли кавалера в представлении «аристократки». Зато она сама, войдя в роль, несколько переигрывает «и вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет». Неясно, что заставило Григория Ивановича оценить ее походку в этот момент как «развратную». То ли он ожидал, что на культурное предложение последует культурный отказ, то ли дама, войдя во вкус флирта, стала двигаться особенно изысканным шагом – точно сказать нельзя. Но именно в этот момент напряжение между двумя характеристиками, о которых уже шла речь («кавалер и у власти»), становится особенно острым. С одной стороны, Григория Ивановича «взяла… этакая буржуйская стыдливость». Он уже второй раз относит к себе слово «буржуй» (несколькими предложениями ранее он говорит, что вьется «вокруг ее» «этаким буржуем нерезаным»). То есть, оказывается, очень трудно отказаться от совершенно не подходящего водопроводчику титула «кавалера». С другой стороны, в дырявых карманах пролетарских штанов представителя новой власти может не оказаться денег на пирожные, что для кавалера немыслимо. Наивные попытки героя разрешить противоречие в рамках «кавалерственного» поведения («Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть» и «Натощак – не много ли? Может вытошнить») наталкиваются на твердое «нет» дамы, истинные обстоятельства которой становятся вполне ясны. Никакая она не «привыкшая», пирожные видит редко, если не впервые, потому-то и жадность ее, прикрытая ролью «дамы», как и нищета Григория Ивановича, прикрытая ролью «кавалера», понятна и оправданна. Оба героя комичны, но обоих и жаль – Зощенко смешит, но не издевается над своими персонажами, по отношению к ним этот рассказ не сатирический, а гуманистический. Кульминацией, в которой герои предельно смешны и в то же время им в наибольшей степени сочувствуешь, становится следующий эпизод:
«Тут ударила мне кровь в голову.
– Ложи, – говорю, – взад!
А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит».
Впереди еще уморительно забавная сцена, в которой Григорий Иванович расплачивается «за скушанные четыре штуки» пирожных. В ней нас будут интересовать два момента. Когда оказывается, что денег у Григория Ивановича нашлось ровно на четыре пирожных, он дает такой комментарий: «Зря, мать честная, спорил». А дама, названная им теперь гражданкой (как тогда, когда они еще не были знакомы и не вступили в отношения кавалера и дамы), «не двигается» и «конфузится докушивать» последнее пирожное, хотя оно оплачено.
Очевидно, что Григорий Иванович сожалеет о своей выходке, перечеркнувшей возможность развития их отношений, а дама унижена и подавлена. «Буржуйский» тон ее последней реплики («Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездют с дамами») не имеет никакого отношения к ее действительному происхождению. В лучшем случае она из бывших горничных, насмотревшихся на жизнь господ, но никогда не живших этой жизнью. И дело вовсе не в ее тоне, а в ошибочной культурной ориентации обоих. «Галантерейные» мечты «аристократки» разбиваются о суровые пролетарские будни, а навязанные новым строем представления о принадлежности водопроводчиков к власти провоцируют героя вести себя неестественно для него.
Конечно, рассказ Зощенко – сатирический. Но объектом сатиры в нем являются не несчастные «кавалер» и «дама», любовь которых в других условиях (лиши ее претензий на мнимый аристократизм, а его – на сознание мифической власти) могла бы состояться, потому что они явно испытывают друг к другу симпатию. Объектом сатиры, независимо от того, вкладывал это в рассказ автор или нет (так же, как и в другие рассказы этих лет), становятся искаженные общественные пропорции. Оказавшиеся на культурной авансцене эпохи, но не готовые к этому пролетарии присваивают в отсутствие хозяев не свойственные себе формы быта и чувствуют себя при этом неуютно. Иногда даже в такой степени неуютно, что срываются в пролетарские интонации и сами себя этим шокируют. К анализу рассказа нет необходимости привлекать ни статью Мережковского «Грядущий хам», ни книгу Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», ни другие источники, основывающиеся так или иначе на аристократическом отвращении к профанации культурных ценностей массовым человеком, человеком толпы. Зощенко смотрит иначе: человек толпы у него, конечно, пошл и груб, но потерян и несчастен, и не он виноват в том, что потерян. Он не сам потерялся, это его потеряли в гигантских социальных катаклизмах ХХ века, и это о нем сказал в Нобелевской речи Иосиф Бродский: в настоящей трагедии гибнет хор.