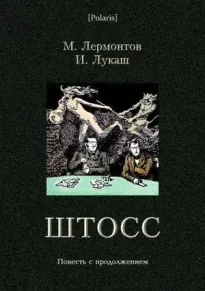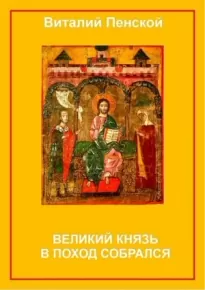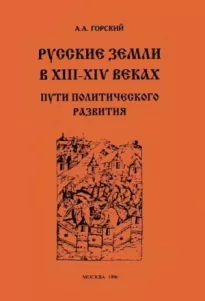Изображая женственность. Женщина как артистка в раннем русском кино

- Автор: Рэйчел Морли
- Жанр: Театр / Изобразительное искусство, фотография / Кино
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Изображая женственность. Женщина как артистка в раннем русском кино"
Мэри с «мужской» точки зрения: от античной мифологии до новых образцов роковой женственности
Женское… продвижение в обществе — это путешествие не от мифа к истине, но от мифа к новому мифу. Камилла Палья[210]
Гибкая до змеиности и бледная до прозрачности, с почти святыми глазами и развратными устами. Это — женщина-танго. «Новая Ева», 1914[211]
То, что наезд отображает мужскую точку зрения, на самом деле, вложено в само движение камеры, когда та нацеливается на танцовщицу. Такое движение необходимо, чтобы обратить внимание зрителя на артистку и подтолкнуть его к внимательному наблюдению за ней. Выходит, что, как и в «Стеньке Разине» Дранкова, скопофильная камера снимает танцовщицу-Саломею, а весь фрагмент организован в соответствии с мужским взглядом, где мужчина в позиции зрителя, а женщина — «зрелища». Снова, как и в «Разине», наряд танцовщицы подчеркивает ее «бытие-под-взглядом» и предлагает экзотическую «инаковость» и чувственную женственность, измышленную мужчиной. Более того, в отличие от «Стеньки Разина», в центральной части танца зрители танцовщицы из ночного клуба целиком исключены из кадра. Таким образом, и сама танцовщица отделяется, выносится за рамки диегетического пространства фильма. Это лишь подчеркивает тот факт, что, несмотря на всю свою важность для тематики фильма, сцена ничего не привносит в сюжет. Другими словами, она «украшает» фильм, но не добавляет повествовательных деталей. Существуя вне сюжета фильма, выступление танцовщицы, таким образом, служит примером того, что, как утверждала Лаура Малви, в классическом кино «визуальное присутствие женщины имеет тенденцию к тому, чтобы препятствовать развитию сюжета, сковывает поток событий в моменты эротического созерцания»[212]. И таким образом, в этой сцене зритель получает очередное изображение женщины как объекта, выставленного напоказ ради зрительского удовольствия.
При этом, рассмотренное в контексте своего времени, это движение камеры также служит напоминанием, что мужской взгляд, по словам Элейн Шоуолтер, может быть «как самоутверждающим, так и ставящим под угрозу»[213]. Более того, опираясь на исследование историка кино Тома Ганнинга, Цивьян документирует, что в начале 1900‐х зрители часто ошибочно трактовали наезд, реагируя на него, как на движение предмета к камере, а не камеры к предмету[214]. В поддержку такой трактовки Цивьян цитирует пассаж из мемуаров испанского режиссера Луиса Бунюэля:
Я никогда не забуду того ужаса, который разделил со всеми зрителями зала, когда впервые в жизни увидел наезд. С экрана на нас надвигалась голова, она становилась все больше и больше, словно собиралась нас всех поглотить. Я даже не мог представить, что это камера приближается к голове… Мы видели перед собой голову, которая приближалась, чудовищно увеличиваясь[215].
Даже в 1910‐е зрительское восприятие наезда все еще было окрашено этими тревогами. Как поясняет Цивьян:
Конечно, в 1910‐х зрители уже не думали, что голова увеличивается вместо того, чтобы приближаться. Но сопутствующий эффект «головы, которая надвигалась на нас с экрана», описанный в мемуарах Бунюэля, очень даже присутствовал. Наезд наделял предмет дополнительной энергией, которая позволяла ему надвигаться, источать угрозу и даже агрессию. В 1910‐е такие коннотации все еще были частью наезда, не только обуславливали его восприятие, но и определяли его использование[216].
В бауэровской репрезентации танцовщицы-Саломеи, действительно, есть и другие «источающие угрозу и агрессию» черты. Черный задник создает зловещую, траурную атмосферу, а в дизайн наряда танцовщицы Бауэр включает непривычную деталь: огромные когтеобразные накладные ногти. Эти ногти превращают тонкие и волнообразно движущиеся руки танцовщицы в грозных клыкастых змееподобных существ и, таким образом, пробуждают образ vagina dentata, обыкновенно связанный с Саломеей в искусстве XIX века, и увиденный в рисунке Обри Бердслея «Иоанн и Саломея» 1894 года и Шоуолтер, и Палья. Также эти ногти напоминают необыкновенные декорации, созданные режиссером театра Николаем Евреиновым и его художником Николаем Калмаковым для их постановки уайльдовской «Саломеи» 1908 года. Согласно Спенсеру Голубу, основное действие спектакля разворачивалось «внутри гигантской сценической вагины», мизансцены, которая срывала «все покровы иллюзии и метафоричности» и «буквально создавала зрелище гендерного поглощения (vagina dentata)»[217]. Уильям Тайдман и Стивен Прайс также отмечают, что такая декорация служила «визуальному обозначению „кастрирующей женщины“, которую многие опознали в уайльдовской „Саломее“»[218]. Все эти детали и культурные коннотации того времени в совокупности позволяют предположить, что в фильме танцовщица-Саломея репрезентирует не столько новую женщину, сколько архаичную модель роковой женщины XIX века, известного источника мужского страха.
Связь между Мэри и образом Саломеи XIX века подспудно сохраняется до конца картины. В следующей сцене в доме у Мэри (безусловно, оплаченном Виктором, но обставленном его любовницей: с комнатами, настолько захламленными безвкусными безделушками, что сама эта захламленность явно символизирует жадность и жажду Мэри до материальных благ) Бауэр раскрывает хищническую натуру Мэри, включая в построение мизансцены великолепную кушетку с медвежьей шкурой, на которой она и возлежит, подобно охотнице, самозабвенно красующейся своим трофеем. Такая поза напоминает фигуру одалиски — распространенный в искусстве и литературе XIX века образ восточных фантазий. Как показывает Оксана Булгакова, в рассматриваемый период «мода на ориентальных красавиц вводит новую позу… возлежание»[219]. Язык тела героини как в этой, так и в следующей сцене, где она лежит на шезлонге, предаваясь эротическим фантазиям о лакее Виктора, служит в том числе и для того, чтобы вновь подчеркнуть ее связь с фигурой персидской княжны, которая показана чувственно возлежащей как у Дранкова, так и у Либкина: на восточном ковре — у первого и на кушетке — у второго.
Но только в финальной сцене фильма, когда Мэри исполняет танец, а Виктор в это время умирает, становятся явными как отрицательная сторона образа Саломеи, так и связь между Мэри и восточной искусительницей. Сцена начинается, когда разоренный и томящийся от любви Виктор прибывает к дому Мэри, чтобы доставить письмо, в котором он молит об одной последней встрече. Кадр, в котором Виктор вручает письмо швейцару, Бауэр монтирует с пьяным застольем, где Мэри и ее новый любовник готовятся развлекать гостей. Как подобает такой дерзкой и уверенной в себе новой женщине, Мэри исполняет новый танец — танго[220].
Описанное Цивьяном как «возмутительно либидинальное», танго прибыло в Россию из Парижа поздней осенью 1913‐го и моментально возымело скандальный успех. Этот новый танец возбудил ярые дискуссии: в начале февраля 1914‐го в Москве и Санкт-Петербурге о нем велись открытые дебаты. Большинство российских художественных деятелей сошлись на том, что его определяющей чертой был трагический и несколько зловещий сексуальный характер. Так, Михаил Бонч-Томашевский в своей «Книге о танго: искусство и сексуальность» (1914) описал танец следующим образом: «Да, танго сексуален. Сквозь покров едва уловимых движений в нем неизменно скользит электрический ток чувства. <…> Танго дает прекрасные строгие формы сексуальности нашей эпохи»[221]. Театральный критик Homo Novus писал:
Танго серьезен, танго трагичен… Танго нельзя танцевать «aus reiner Tanzlust», по немецкому выражению, оттого, что на душе «играет музыка» и ноги сами по себе, приходят в движение. <…> Он заключает в себе опоэтизированную и в то же время вполне осознанную грустную повесть сексуального влечения, со всеми его негативными радостями и позитивными страданиями. <…> Танго говорит о чем-то, что знаешь, о прожитых годах, об осадке, оставшемся на душе, и о неизбежности роковых законов сексуального влечения[222].
Официальная газета Священного синода «Колокол» тем временем опубликовала статью, которая осуждала танго как форму «сухого разврата».
И если современный подход к сексуальности уже заложен в выбранную Мэри танцевальную форму, то чувственную атмосферу ее выступления Бауэр поддерживает через мизансцену: тяжелый черный бархатный занавес с неброским узором из тисненых роз (возможно, отсылающих к шипастым розам в изображении Саломеи Бердслеем) занимает три четверти кадра, помещая зрителя в позицию растерянного вуайериста, которому удается лишь мельком увидеть танцующую Мэри. Схож этот занавес и с задником, на фоне которого выступала анонимная танцовщица-Саломея в ночном клубе, что напоминает зрителю о связи между Мэри и образом Саломеи. Но у занавеса есть и другая функция, ибо он создает разные планы действия: пространство за ним принадлежит Мэри и ее гостям, пространство же на переднем плане отведено служанке — она мечется, пытаясь сообщить Мэри о письме Виктора, но не смеет пройти за занавес. Таким образом, занавес символизирует социальную границу и отделяет Мэри и ее окружение из высшего сословия от служанки. Бауэр напоминает зрителю о ее скромном происхождении, а заодно ловко задает ее подвижность, динамичность, трансгрессивность. Финальное значение занавеса — создание сценического пространства, особенно явного, когда Мэри, отослав служанку, распахивает его, прежде чем вернуться к танцу. Все это Бауэр успешно использует, чтобы показать: увиденное нами — такое же представление, как и танец Саломеи.
Письмо Виктора прерывает выступление Мэри, но вызывает у нее лишь усмешку. Следующий ее жест позволяет Бауэру метко проиллюстрировать полное перераспределение баланса сил в отношениях главных героев: Мэри дает своей служанке три рубля для Виктора в надежде избавиться от него и разом переворачивает принятые в обществе гендерные роли. Ни секунды больше не думая о нем, Мэри возвращается к своему танго. Далее зритель видит кадр с Виктором, который бросает на землю деньги Мэри. Эта оскорбительная подачка окончательно развеивает его иллюзии, и Виктор подносит к виску пистолет. И в этот драматический момент Бауэр внезапно оставляет героя и возвращается к Мэри. Больше минуты камера наблюдает (новаторский верхний ракурс), как Мэри и ее новый любовник танцуют танго. И только когда Мэри и ее гости уходят, чтобы продолжить танцы в «Максиме», модном московском танго-клубе, открывшемся в декабре 1913-го, мы обнаруживаем, что Виктор в самом деле застрелился.
Цивьян, исходя из сугубо кинематографических предпосылок, считает, что долгий кадр с исполнением танго одновременно и «громоздкий», и «не вписывающийся в стандарты повествования», потому что к тому моменту, когда Бауэр наконец-то возвращается к Виктору, все сомнения в решимости героя покончить с собой, которые могли возникнуть у зрителя, уже «окончательно развеяны»[223]. Тем не менее продолжительность выступления не обязательно не стыкуется с созданием саспенса, напротив, она может усилить потрясение от смерти Виктора. Доминик Наста приводит эту сцену как пример того, как ранние киномелодрамы «использовали музыкальные вставки в очень конкретные психологические моменты, чтобы усилить эмоциональное воздействие визуального ряда»[224]. Экзотическая музыка танго, исполни ее тапер, привела бы публику того времени в восторг. Упоенные сценой с модным танцем, зрители оказались бы вырваны из этой неги резким завершением сцены через переход к кадру с трупом Виктора. В самом деле, наиболее вдумчивые из зрителей были бы шокированы той легкостью, с которой Бауэр и Мэри позабыли о Викторе. И с этой точки зрения сцена срабатывает именно за счет своей продолжительности, поскольку, как продолжает Наста: «Зрители должны воспринимать на слух чувственные ритмы танго, чтобы в полной мере испытать шок от идущего следом самоубийства жертвы»[225].