Госсмех. Сталинизм и комическое
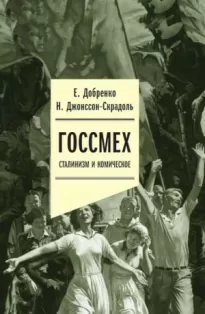
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
«Война, 1941–1945» Эренбурга: Вопрос точки зрения
Пол Сефалу утверждает, что «типичные комические персонажи невидимы для самих себя, но видимы для мира»[368]. В этом смысле Эренбург находится на позиции «мира». Его точка зрения — внешняя по отношению к тем, кто комичен в своем невежестве, кто пойман в сети навязчивого повторения идеологически насыщенных лозунгов — или, скорее, кто был пойман в эти сети, ибо большинство авторов дневников и личных писем, которыми он делится со своими читателями, уже мертвы. С этой внешней точки зрения, «пророческая» просьба немецкого солдата о варежках для завоевания Сибири становится особенно комичной на фоне неизбежного разгрома немецкой армии. Так же как и сентиментальный тон рассуждений о том, как с наступлением весны «пройдет зима, опять защебечут птицы, зазеленеет молодая трава, зажурчат ручейки, и германская армия сурово двинется в атаку», становится смешным, если взглянуть на ситуацию с иной — внешней — точки зрения: «Весной трава зазеленеет. Но зазеленеет она на немецких могилах. Ручейков фрицы не услышат» («Наступление продолжается», 27 ноября 1942).
Одно из очевидных различий между тем, как представлены «наши люди» в поэме Твардовского, и тем, как представлены враги в фельетонах Эренбурга, заключается в позиции рассказчика. В «Теркине» рассказчик сопровождает героя, и его голос часто сливается с голосом Теркина. Рассказчик шутит именно с этой, «внутренней» позиции; он — инициатор шуток, даже когда рискует стать жертвой следующей, почти неизбежной, фронтовой трагедии. Эренбург же смотрит на своих героев с позиции внешнего наблюдателя. Он не инициирует шутки, а находит смешное в своем материале, даже если (или именно когда) этот материал предназначен для прочтения в совершенно ином ключе. Документы и люди, на которых комический эффект основан, лишены какого-либо контроля над этим эффектом[369]. Внешняя точка зрения может быть обусловлена тем, что автора фельетонов и авторов материалов, на которых эти фельетоны основаны, разделяет линия фронта, но в той же мере она может быть результатом течения времени (поскольку интерпретация первичного текста, по определению, находится в будущем по отношению к моменту его написания). В любом случае, эта внешняя перспектива всегда предполагает возможность прочтения оригинальных текстов в ключе, отличном от изначально заданного. Внешний наблюдатель и толкователь сообщений может предвидеть, что наполненное идеологическим пафосом событие обратится в фарс. Здесь уместно вспомнить Хайдена Уайта, писавшего, что «один рассказ о событиях может представить их как эпические или трагические по форме и значению, в то время как другой рассказ о тех же событиях, в той же степени достоверный и никак не искажающий документальную основу, будет описывать фарс»[370].
Разговор о восприятии одного и того же события либо как трагедии, либо как фарса — это, конечно, отсылка к Марксу. В статье об элементах комического в исторической диалектике Джошуа Кловер предположил, что кризисные ситуации приводят к тому, что «то, что было трагедией на одном уровне, возвращается как комедия на уровне более высоком <…> В этом смысле нельзя сказать, что комедия — это трагедия плюс время. Комедия — это трагедия плюс масштаб»[371]. В случае, рассматриваемом здесь, наличествуют оба эти элемента обращения трагического события прошлого в комедию: временнáя перспектива, равно как и простое смещение оптики как результат замены изначально планировавшегося адресата на комментатора.
Насмешка Эренбурга над врагами в большой мере основана на разнице между тем, что было и что есть, что есть и что будет. Те, кто в начале своего наступления были снобами, уверенными в том, что являются носителями самой великой культуры современности, делившиеся с дневниками размышлениями о том, что они не могут вспомнить «ни одной книги, переведенной с русского, ни одной пьесы», твердо знающие, что они идут завоевывать страну, у которой нет «ни искусства, ни театра» («Орда на Дону») и столица которой «была построена немцами», через сравнительно короткое время оказались способными думать только о собственном физическом выживании, вынужденными обливаться одеколоном в надежде спастись от вшей и надеющимися поймать кота или ворону, чтобы не умереть от голода. Не стесняясь в насмешках над «отсталой» русской культурой, спустя лишь несколько месяцев войны на ее территории они «с завистью смотрят <…> на русские валенки. Они спрашивают: „Что это?..“ По-немецки даже нет такого слова. <…> немцам это внове. Они сидят при тридцати градусах в тесных башмаках. Сидят и плачут» («Ледяные слезы», 9 декабря 1941). Последовав за человеком, в котором они увидели пророка, они оказались ведомы идеологически несостоятельным диктатором, который «больше не верит в будущее. Он жадно цепляется за прошлое. Он истерически выкрикивает: „Я выступил… Я покорил… Я победил…“ Из всех глагольных времен на его долю осталось одно: прошедшее» («С Новым годом!»).
В своем исследовании риторических тропов Кеннет Берк предлагает «общую ироническую формулу», которая применима и к опыту немецкой армии на Восточном фронте, и к тому, как представляет Эренбург этот опыт в своих текстах: «то, что отправляется в путь как A, возвращается как не-А»[372]. Именно это произошло и с немецкими солдатами и офицерами, и со всей немецкой идеологией. Именно в этом суть смещения оптики и изменения масштаба, что производит эффект пародии, удачно эксплуатируемый Эренбургом. В первоначальном значении «пародия» означает «пение рядом» или «пение наизнанку», то есть сопровождение музыкального произведения в несколько неверном ключе с тем, чтобы подчеркнуть — и высмеять — некоторые элементы оригинального произведения. Этой традиции «пения наизнанку» и следует Эренбург, комментируя события почти в реальном времени или же вскоре после смерти описавших эти события, в результате чего все описанное превращается в пародию. И эта способность советского журналиста почти немедленно облекать в короткие тексты свою реакцию на все, что попадало ему в руки, оказалась особенно полезной. Ему даже не приходилось слишком вмешиваться в содержание и формулировки оригинальных текстов. Все, что было нужно, — это лишь небольшое смещение акцентов, добавление некоторых прилагательных — и желаемый эффект был достигнут. Именно это Эренбург делал, когда читал траурные объявления в немецких газетах вместе с объявлениями о знакомствах:
Самое увлекательное — объявления. Восемнадцать немок сообщают о смерти фрицев. Приятно читать. Конечно, гретхен выражаются поэтично. <…> Однако за траурными анонсами следуют другие, куда более веселые: фрицы и гретхен ищут партнеров. Из объявлений видно, что фрицы теперь поднялись в цене: «идея фюрера» сильно уменьшила количество производителей в Германии. <…> Учитывая, что фрицы в Германии дефицитный товар, она [ищущая партнера автор объявления] согласна на инвалида. Она предлагает за попорченного фриценка магазин и 60 тысяч марок («Бескорыстные Гретхен», 16 октября 1942).
Эффект повторения оригинальных текстов в другой «тональности» усиливается благодаря совмещению двух очень разных жанров, которые оказываются как бы в диалоге друг с другом. Мужчины умирают; мужчины оплакиваются невестами и женами; невесты и жены ищут новых женихов и мужей — такова бесконечная цепочка, каждое последующее звено которой превращает предыдущее в пародию. Каждое звено — сначала трагедия, потом фарс, причем между этими двумя фазами практически нет разделения; все, что нужно, — это небольшое смещение перспективы.
Для обоих режимов было важно стереть грань между общественно значимым и личным, между «человеком, который просто живет, чье место в доме, и человеком как политическим субъектом, чье место в политике», каковая грань для Джорджио Агамбена является «категорической, фундаментальной составляющей» общественной жизни[373]. Однако в «Теркине» устранение этого различия приводит к спокойному принятию войны как просто рутины, которую нужно проживать. Для героя Твардовского война — это просто место и время, в котором нужно жить жизнь и где нужно помнить о смерти и знать, что каждый заменим, и быстро: один умирает, другой встает на его место. Присутствие на войне так же естественно для Теркина, как и присутствие на свете вообще («Ну, война — так я же здесь»). Он трогателен в своем равнодушии к неожиданно доступному комфорту буржуазной жизни, едва замечая, что «стулья графские стоят / Вдоль стены в предбаннике», когда ему удается впервые по-настоящему помыться после пересечения вражеской территории. Деньги в поэме упоминаются лишь однажды — когда советские солдаты в той же бане шутливо просят друг друга «добавить на пфенниг» горячей воды, чтобы смыть с себя дорожную пыль после долгого пути на запад.
Нацисты же воспринимают и ценности жизни, и ее цену совсем иначе. Если советский солдат размышляет о том, чего он стóит как человек, и даже глядя в глаза смерти шутит сам с собой, задаваясь вопросом, пустят ли его на небеса «без аттестата», то немецких солдат волнует лишь вопрос о том, что сколько стóит. Сколько нужно отдать или можно получить за банки с консервированной свининой? Сколько колбасы, жареных цыплят, дорогих тканей можно наворовать? В то время как советские бойцы уверены в своем равноправии перед лицом и невзгод, и счастья («От Ивана до Фомы, / Мертвые ль, живые, / Все мы вместе — это мы, / Тот народ, Россия»), для немцев единственное понятие равенства касается денежного обмена: сколько будет стоить новый спутник жизни? Если инвалид, то может ли выйти подешевле? Как живая (хотя и не всегда живая, учитывая судьбу большинства авторов источников, используемых Эренбургом) иллюстрация утверждения Адама Смита о «склонности человеческой природы <…> к мене, торговле, к обмену одного предмета на другой»[374], солдаты и офицеры вермахта движимы самыми примитивными побуждениями, какие знает капиталистическое общество. Даже следуя физическим инстинктам, они остаются расчетливы: «Любовь для них нечто среднее между скотным двором и биржей» («Бескорыстные Гретхен»). Они смешны в этом по той же причине, по какой они неизбежно смешны во всем, чем бы они ни занимались: они просто не понимают, что война изменила правила игры. Они смешны так же, как был бы смешон любой, кто пытается держать свою лавку открытой во время карнавала, как ни в чем не бывало.





