Госсмех. Сталинизм и комическое
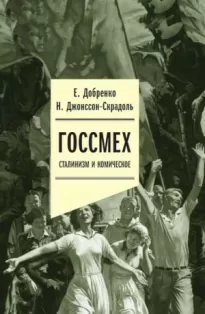
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Благонамеренный смех: Искусство фельетона
Тотальная инструментализация и сатиризация смеха в сталинизме была связана с функциями комического в сталинском политико-эстетическом проекте. Сатира активно участвовала в обеспечении легитимности режима. Последняя основывалась на сложном балансе: одной опорой идеократического государства была доктринальность и идеологическая ортодоксальность; другой, напротив, оппортунизм и политическая приспособляемость. В решении этого непростого уравнения сатира («критика и самокритика») играла важную роль, поскольку была универсальным инструментом различения и маркировки: она последовательно окрашивала в свои цвета прошлое и внешний мир (настоящее, напротив, покрывалось глянцем «доброго юмора»). Сатира не просто маркировала прошлое: то, что превращалось в объект сатиры, становилось прошлым (это распространялось не только на «пережитки прошлого в сознании советских людей», но и на Запад как мир капиталистического прошлого). Таким образом, именно благодаря сатире система каждый раз приспосабливалась к новым условиям, оставаясь самой собою.
Другая ключевая функция сатиры состояла в том, что она позволяла соотносить сильно приукрашенную советской пропагандой и искусством картину советской жизни с реальностью. В этом качестве она была настолько важна, что утверждалось, что она останется едва ли не единственной пенитенциарной практикой будущего: «При коммунизме, может быть, единственным способом, единственным средством наказания нарушителей общественного порядка, единственной возможностью пресечения зла будет сатира»[574].
О синтетической природе фельетона писали в 1920-е годы Тынянов и Казанский, когда рассуждали о том, что «литературе все время нужна подпитка из внелитературного ряда»: поскольку «литературность теряет кредит», литература обращается к реальности, к газете, к факту, к фельетону, жанру, находящемуся на перекрестке литературы и жизни. Это, по их словам, «смешанный по своим функциям жанр»: «по методам разработки факта фельетон — явление литературное, по своему отношению к факту — внелитературное. Обе функции необходимы, и именно соединение их, переключение бытовой и художественной функций составляет суть фельетона»[575]. Из их рассуждений следовало, что в фельетоне есть три аспекта: журналистский (фактичность), литературный (суггестивность) и публицистический (политическая актуальность)[576]. В советском фельетоне они находились в постоянном конфликте, что обеспечивало жанр энергией. Он был устроен таким образом, что одна его функция отменяла другую. Так, беллетризация факта была направлена на его деполитизацию, а публицистичность являлась лишь синтезом литературности и журнализма, поскольку именно в ней должно было находить выход политическое содержание фельетона.
Вот почему дискуссия о природе фельетона во второй половине 1920-х годов приняла форму по сути политического спора. Развернувшись на страницах журнала «Журналист», она шла между двумя полюсами, обозначенными названиями статей Л. Гроссмана «Фельетон — влиятельный литературный жанр»[577] и С. Морозова «Фельетон — нехудожественный жанр»[578]. Позиция формалистов — инициаторов и редакторов сборника «Фельетон» (1927) Тынянова и Казанского — также сводилась к утверждению антилитературной позиции: фельетон — «это не „литературное“, не „художественное“ произведение <…> Когда фельетон имеет претензию стать „художественным произведением“, он теряет свою ценность даже для литературы художественной»[579].
В отличие от теоретиков, практики советского фельетона делали упор на журналистской природе жанра, который питался литературными приемами для того лишь, чтобы быть эффективным. «Оформление фельетона, раскраска его остроумием, художественными образами подчиняются политическому осмысливанию факта, теме, идее», — утверждал придворный сталинский фельетонист Давид Заславский[580]. И хотя литературе здесь отводилась роль «оформления» и «раскраски», ее удельный вес в фельетоне был куда выше, чем в любом другом журналистском жанре: «Статья, написанная тяжелым или пресным языком, — это все же статья, хотя и плохая. Фельетон, написанный корявым языком или серым языком, — это вообще не фельетон»[581]. Но сказав «А», пришлось говорить и «Б»: раз фельетон — литература, значит, на него распространяются основные требования, предъявляемые к ней. Когда речь идет о реализме, на первое место выходила типизация, причем соцреалистическая, ведь, как призывала Евгения Журбина, «пора увидеть наш фельетон как революционное по своей природе, сложное и тонкое художественное оружие, назначение которого быть авангардом, „разведкой образом“ в литературе социалистического реализма»[582].
В литературности фельетона советские критики предпочитали видеть апелляцию не столько к качеству смеха, сколько к литературной «революционно-демократической традиции». Якобы именно ею определялась природа фельетонного смеха:
Фельетонный жанр, при всех его публицистических приметах, создается и «управляется» теми же законами, которые лежат в основе художественного произведения. Рассматривая его иначе, невозможно найти ключ к его своеобразию[583].
Однако в литературной родословной фельетона и славных «революционно-демократических традициях» советских теоретиков не устраивала его политическая ангажированность и оппозиционность. Вот как рассуждала на сей счет главный теоретик советского фельетона Журбина:
На всем протяжении своего существования фельетон сохранял функцию маскировки, хотя и в очень ослабленной и измененной форме. У нас такая подоплека совершенно и окончательно отпала. Непрямая подача материала читателю осталась как способ подать его — этот материал — в неожиданном ряду[584].
И в самом деле, советский фельетон создавался как жанр без установки на эзопов язык и подтекст. Если увидеть в нем продукт цензуры, то придется признать, что никакие маскировка и трюкизм ему не требовались. Будучи связан с «фактом», а не с вымыслом, с жизнью, а не с художественной реальностью (в фельетоне уже сам выбор факта являлся политическим актом), фельетон и превращался в продукт политической цензуры. Вот почему так трудно было описать этот новый жанр в категориях литературной традиции. Но на этом проблемы советского фельетона только начинались.
Взять хотя бы отбор материала: то, что становится предметом фельетона, по определению не могло быть серьезной темой — серьезные темы в фельетоне не освещаются. Будучи пограничным жанром, фельетон, с одной стороны, сатира и вымысел, а с другой — журналистика («литература факта»). И здесь возникало острое перцептивное противоречие между серьезным и веселым, которое можно сформулировать в виде простого вопроса: почему этот смешной человек должен быть посажен в тюрьму, отправлен в лагерь на двадцать пять лет или расстрелян? Ничего смешного в этом быть не может.
Даже те, кто настаивал на литературной природе фельетона, понимали, что поскольку это газетный жанр, он более других подвержен политическому влиянию и цензуре. В условиях советской печати, которая вся была партийной и рассматривалась властью как инструмент партийной политики, фельетон не мог использоваться иначе как сугубо политический инструмент. Роль газеты, говоря словами Ленина, «не ограничивается одним распространением идей, одним политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор»[585]. Соответственно, журналисты, включая фельетонистов, рассматривались в качестве «помощников партии», которая устами своего вождя требовала «деловой, беспощадной, истинно революционной войны с конкретными носителями зла»[586]. Ключевое слово здесь — «конкретными». Инструментом такой конкретики и стал фельетон. Не обобщений, но именно конкретики.
Вот почему так трудно было приспособить к советскому фельетону принцип типизации, на котором основывалась советская теория реализма. Ведь вместо обобщения он требовал индивидуализации («конкретные носители зла»). В результате вся история советского фельетона превратилась в борьбу с типическим. Без опоры на факт и конкретику фельетон превращается в фиктивный текст — рассказ. Но факт здесь важен как утверждение не столько конкретности, сколько единичности. Главный принцип советского фельетона: «Не обобщать!». Если соцреализм весь строился на обобщении (в «Кубанских казаках» изображен не отдельный колхоз, а «типичный» — так живет все колхозное крестьянство), то фельетон должен быть понят как оборотная сторона соцреализма. Если соцреализм говорил, что нетипичное типично, то фельетон, напротив, утверждал, что типичное нетипично. Соцреализм говорил: главное — это не распространенность (положительного) явления, a его соответствие новому («жизнь в ее революционном развитии»). Фельетон же утверждал ровно обратное: главное не распространенность (отрицательного) явления, а его несоответствие новому. Это была лакировка через антилакировку.
Нужно было разрешить главную проблему советского фельетона — проблему типического — при помощи лекал соцреализма. Журбина писала о том, что «вопрос о типическом образе» имеет «решающее значение при определении того, как выполняет стоящие перед советской печатью задачи фельетон». Оказывается, «если фельетон опирается на отдельные, произвольно вырванные из жизни, случайные факты и если эти отдельные конкретные факты не выступают как образ, обобщающий наблюдения фельетониста, фельетон не выполнит своего назначения»[587]. И хотя описывала Журбина эту проблему как эстетическую, в реальности она была сугубо политической. В статье «Статистика и социология» (январь 1917 г.) Ленин разрешал ее так:
В области явлений общественных нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. Факты, если взять их в их целом, в их связи, не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже… необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения…[588]
Здесь раскрывалось широкое поле для интерпретаций. Выступая на семинаре «Фельетон в газете», состоявшемся в феврале 1951 года в редакции газеты «Правда», Семен Нариньяни рассуждал:
О чем надо писать: о типичном или не типичном? Мы, фельетонисты, пишем об исключениях из типичного. Но обо всяком ли исключении мы пишем? Нет. Мы пишем о тех исключениях, которые имеют какое-то распространение. Вот, к примеру, человек не платит алиментов, не хочет воспитывать своих детей. Разве советские люди все такие? Нет, конечно. Но это исключение до некоторой степени распространенное[589].





