Госсмех. Сталинизм и комическое
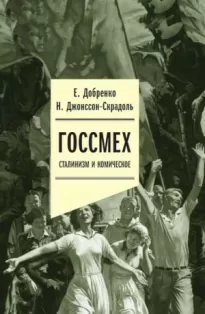
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Гендерный смех: Советские femmes fatales
Согласно российской интеллигентской традиции, именно коллективизм, присущий «народу», являлся противоядием от буржуазности, в основе которой лежал принимавший разные формы — карьеризма, бездушного отношения к людям, чиновничьей спеси, формализма — индивидуализм… Все это, как мы видели, характеризовало бюрократа. Мещанин — это оборотная (бытовая) сторона буржуазного индивидуализма. Если бюрократизм был представлен в качестве буржуазно-индивидуалистического «извращения» в сфере социальной (но никогда не политической!), то мещанство — таким же извращением в сфере повседневной жизни.
Ненависть дореволюционной интеллигенции к государству могла соперничать разве что с ее ненавистью к мещанству и была сложным социально-психологическим комплексом. Как замечает Светлана Бойм, интеллигенция страдала особым «комплексом неполноценности-превосходства» и видела себя духовной наследницей аристократической традиции[687]. С точки зрения «аристократов духа», мещанство, которое не было ни аристократией, ни крестьянством, с одной стороны, являлось своего рода пародией на аристократию (и невольно — на саму интеллигенцию!), с другой — размывало целостность романтически идеализированного «народа». Поэтому оно воспринималось как признак буржуазности и, следовательно, как «извращение и осквернение истинной русской народности»[688]. Именно социальными комплексами объясняется зацикленность интеллигенции на критике буржуазной семьи, мещанский уклад которой русская интеллигенция презирала. Интеллигентскими комплексами объясняется и глубокая неприязнь к западной частной жизни и идее собственного дома, где протекает приватная, а не коммунально-соборная жизнь. Страх перед перспективой перехода России на капиталистический путь развития и, как следствие, роста влияния буржуазии стал тем, что связывало все слои русской интеллигенции, а презрение к мещанству как признаку буржуазности — базовым условием интеллигентности. Понятия «буржуазный» и «мещанский» сделались взаимозаменяемыми.
Ненависть к мещанству всегда была проблемой интеллигентской идентичности. Троцкий объяснил ее, пожалуй, лучше других, указав на то, что спесиво-снобистское, самодовольно-высокомерное антимещанское мировоззрение русской интеллигенции связано с тем, что в России мелкой буржуазии никогда не было. Выдуманный интеллигенцией «народ» жил в нищете, и его образ жизни был не столько мещански-буржуазным, сколько первобытным. Троцкий называл интеллигенцию «щупальцами», которыми русское общество обследовало чуждую ему европейскую культуру. Интеллигенция же полагала, что отсутствие «мещанства» в «народе» есть нечто позитивное и едва ли не прогрессивное, почитая эти очевидные признаки культурной отсталости и материальной нищеты добродетелями воображаемого ею «народа»[689].
Согласно марксизму, капитализм, разрушив устои феодального общества, сделал «голый интерес» и деньги единственной добродетелью и связью между людьми, не оставив места ни религиозному экстазу, ни рыцарскому подвигу, все заменив эгоистическим расчетом, превратив в отношения собственности даже семейные связи, фактически разрушив моногамную семью, поощряя проституцию, порожденную нищенством пролетариата. Поскольку буржуазия сводит любые отношения к коммерческому расчету, ее культура заражена ядом индивидуализма и эгоизма, этими продуктами разложения. Пролетариат же, полагали Маркс и Энгельс, был морально чист и глубоко чужд индивидуализма, разврата и дегенерации. В этой части марксизм полностью соответствовал интеллигентским представлениям.
Однако советская интеллигенция социально-политически, ментально и культурно отличалась от интеллигенции дореволюционной. В массе своей она состояла из поверхностно окультуренных вчерашних крестьян, мелкобуржуазные вкусы которых стали основой сталинского «стиля богатства» и результатом обещанной вождем «зажиточной культурной жизни»[690]. Вернулись и ее атрибуты, считавшиеся в 1920-е годы «мещанскими»: украшения, зеркала, абажуры и скатерти, которые не только фетишизировались, но, как, например, занавески, превращались в «универсальный символ культурности»[691]. Эта интеллигенция по определению не могла быть антимещанской: ее вкусы были конвенциональны (с точки зрения старой интеллигенции, просто «пошлы»); абсолютно лояльная режиму, она стремилась к комфорту, не испытывала неудобств от социального неравенства, была патриотична и глубоко поражена потребительством.
Образовался странный симбиоз: с одной стороны, критика мещанства и мелкобуржуазности оставалась политически корректной; с другой, она все больше теряла идеологическую актуальность, превращаясь в своего рода «самокритику», поскольку перестала быть собственно интеллигентской. Та интеллигенция, для которой мещанские вкусы, манеры и поведенческие навыки были объектом критики, в 1930–1940-е годы покинула историческую сцену. Ей на смену пришла глубоко мещанская советская интеллигенция. Поэтому мещанин был для нее не Другой. «Другим» его делала разве что… перемена пола: мещанин превратился в мещанку.
Все советские бюрократы были мужчинами. Но окарикатуривание мужчин не имело гендерного измерения: они осмеивались не как мужчины, но как бюрократы. Женщины же в сталинских комедиях осмеивались именно как женщины. Образ мещанина, в 1920-е годы имевший мужское лицо (прежде всего, в нэпманской сатире), в 1930-е годы феминизировался, обретя гендерное измерение. Гендерный сдвиг, превращение мещанина в мещанку следует рассматривать как проявление идеологического сдвига: власть (бюрократия) еще больше ассоциировалась с мужским началом; повседневность (мещанство) — с женским.
Классик соцреализма Николай Погодин в качестве комедиографа известен как автор «Аристократов» и киносценария «Кубанских казаков». Однако куда менее известен Погодин-сатирик, создавший трилогию «Моль» (1939), «Бархатный сезон» (1948) и «Когда ломаются копья» (1952), основным объектом сатиры в которой является женщина, проходящая реинкарнацию и из пьесы в пьесу под разными именами (Агнесы, Милы Лютиковой, Вики, Раисы) проявляющая одну и ту же сущность. Она осуждается как обольстительница, хищница и мещанка, то есть прежде всего как женщина. Стоит отметить некоторую необычность этих весьма популярных в советском репертуаре сталинской эпохи пьес. Так, в советском кино (в отличие от театра) советская женщина всегда изображалась исключительно в положительном свете. Это и не удивительно: она была живым воплощением того, что дала народу советская власть — «заботу об охране материнства и детства», поддержку семейных ценностей, счастливую семейную жизнь и борьбу за «высокий моральный облик советского человека». Однако женщина, представленная в пьесах Погодина, — не столько советская женщина, сколько женщина par excellence.
Героиня «Моли», циничная, бесчувственная и обольстительная жена старика-профессора Сомова Агнеса, влюбляет в себя летчика Кострова. Погодин подробно изображает сам процесс обольщения: «Мне нравится, вы не испорчены. Когда впервые я увидела вас и ваша рука была в моей, — я в ту минуту подумала, что у вас должна быть чистая совесть. Вы почти не знали женщин». Оказавшись в квартире Кострова, она поражена его неприхотливостью: «У вас громадное имя, а на окнах тюлевые занавески. Завтра же вас познакомлю с очаровательной блондинкой».
Вся первая половина пьесы — сцены заигрывания Агнесы с жертвой («Милый… Алексей, иди сюда, посмотри, какой он милый. До завтра, милый мой. Позвольте-ка секунду, я хочу посмотреть, какие у вас глаза… Серые глаза всегда подходят к черным, карие к голубым, а зеленые имеют огромную силу привлекать все другие цвета. Я знаю на опыте. Вы не верите? Несчастный, но что вы знаете? Летать?..»).
Профессор Сомов, о котором известно, что он «мировой хирург… всемирный», когда-то спасший Кострову жизнь, очень любит Агнесу. Он признается: «Я, брат, эту женщину до помрачения люблю… старик, a люблю. <…> Ты думаешь, за что же люблю? Она многим действует на нервы, я знаю. Не спорь… Она страшно пуста, а я, как Наполеон, люблю пустых женщин». На всякий случай он дает Кострову совет: «Постарайся как можно дольше не связываться с бабами».
Агнеса знакомит Кострова со своей подругой Ларисой, о которой Сомов говорит односложно: «Это — моль», и о себе: «а я — старый шерстяной пиджак». «Бессменная подруга Ларушка» должна оттенить саму Агнесу. Как полагается, эта яркая блондинка «дивно играет на пианино, интимно поет, молода, открыта, общительна, как никто! Вы посмотрите, какие у нее зубы… Это китайский фарфор… антиквария!» Лариса, подобно Эллочке-людоедке, произносит одну и ту же фразу: «Агнеса, ты шаржируешь». Но шаржирует не Агнеса, а Погодин. Ларисе не нравится идея Кострова уехать ловить рыбу. Идеал Ларисы иной: «Я могу предложить вам Черноморское побережье. Если задумываетесь, то не надо. Я поеду сама. У меня так: утром и вечером пляж, днем процедуры, ночью — танцы и ужин. А рыба — это собачий бред. Представляю себе вас босиком, грязного…» Агнеса куда более продвинута: «Я поеду ловить рыбу. <…> Вы еще не знаете, какую я уху варю, Де л’амур. Любовный напиток. Я прекрасно плаваю, мужчин не боюсь. Василий Тимофеевич, возьмете меня на рыбную ловлю? Я так хочу природы». Цинизм Агнесы коробит даже ее видавшую виды «бессменную подругу»:
Агнеса. Я раздумала, Ларушка… думала, думала и раздумала. Он мне нужен самой.
Лариса. Что же ты с ним будешь делать?
Агнеса. Странный вопрос. Жить, конечно.
Лариса. А профессор?
Агнеса. Я эту проблему и решаю сейчас.
Лариса. Зачем же ты меня пригласила?
Агнеса. Ты, Ларушка, случайный повод для встречи.
Лариса. Так бы и сказала сначала.
Агнеса. Тебе скажи, a ты обидишься.
Лариса. Ты плохо кончишь, Агнеса. Этот летчик не твой профессор.
Агнеса. А я возьму и полюблю его.
Лариса. A ты умеешь?
Агнеса. Любовь не скрипка. Учиться не надо. Любить каждый дурак умеет.
Лариса. Как скверно ты говоришь. <…> Ты меня возмущаешь! Зачем тебе этот человек? Он ничуть не испорчен… Для тебя он слишком честный человек.
Агнеса. А для тебя?
Лариса. Но я бы могла выйти замуж…
Агнеса. И я тоже могу выйти замуж. Когда я живу со стариком, то у меня как-никак ложное положение, а тут будет наоборот. Многие станут удивляться и хлопать глазами — какой у нее муж, откуда она его взяла? Все ли дошло до тебя, милая? Все. Ну, дай поцелую.
Лариса. Иди к черту. Я ухожу. Быть соучастницей в твоих планах мне противно.
Агнеса. Ты все сделала. Ступай, милая. Не кипятись, не поможет. До свидания, девочка.
Агнеса пускает в ход все свое искусство обольстительницы. Она то кокетлива («Я теперь вижу — вы прикидываетесь таким наивным, a с вами ухо надо держать востро»), то притворно-проникновенна («Вы меня уничтожили. Вы из меня сделали робкое, беззащитное существо. Мне стыдно и страшно… (Плачет.) Я не буду. Простите меня, я не буду. Вы не выносите слез»). Она то робка, то, напротив, напориста. Она заставляет Кострова испытывать чувство вины перед Сомовым («Дайте вашу руку. Какая умная и мужская рука. Посмотрите, вон идет сюда мой муж, а мы не успели объясниться. Нехорошо, что он видит нас вдвоем. Он заметил, как я гладила вашу руку»). Она является ночью к Кострову домой, разыгрывая драму («Я вся в тревоге… О эти ворованные минуты, о эта ворованная любовь. Курите, милый, мне приятно смотреть, как вы курите») и устраивая ему допрос («A я мучилась все эти сутки, думая только об одном — прийти или не надо. Ну, говорите, что вы не рады, что вам стыдно, что мой муж, знаменитый хирург, спас вас от смерти, а вы завели шашни с его женой»). Она то стыдит Кострова, то взывает к жалости («Вот вы думаете обо мне, что она — та, которая все может, раз она пришла ко мне… Вы, мужчины, всегда так думаете. Это очень просто. А у нее… живой, реальной, а не придуманной вами… у меня — муж старик! Он даже не красит волос, он непроходимый старик. Мне бывает страшно, как перед смертью. <…> Четыре года тому назад он меня резал и до безумия полюбил. Вот и живу с ним»). Она то обезоруживающе откровенна («Молодая женщина любить старика не может. Поживите сами с какой-нибудь старухой, тогда узнаете, какая это радость»), то приторно пошла («Вы мое прелестное, белокурое дитя. Вы — мой юный Зигфрид»). И наконец на прямой вопрос Кострова: «Чего вы хотите?» отвечает односложно: «Вас!» И совсем уж прямо: «Поцелуйте же меня наконец! Это невозможно». Погодин рисует не просто обольстительницу, но именно хищницу, готовую на все ради достижения цели.





