Госсмех. Сталинизм и комическое
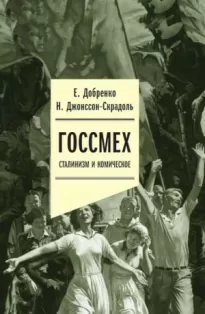
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Другие власти: Функции и модусы фельетона
Встречаясь с молодыми украинскими литераторами в 1953 году, Остап Вишня рассказывал о том, что в его рабочем кабинете на стене над письменным столом висела такая «памятка»:
Мои «друзья», будь они трижды прокляты:
Бюрократы, Вельможи, Хамы, Подхалимы, Взяточники, Спекулянты, Вымогатели, Очковтиратели, Ханжи, Круглосуточные болтуны, Дремучие дурни, Чванливые бахвалы, Хапуги, Зажимщики критики, Перестраховщики, Браконьеры, Грубияны, Задаваки, Замаскированные паразиты, Откровенные мерзавцы, Сутяги и склочники, Халтурщики, Пошляки, Алиментщики-летуны и прочие сукины сыны и прохвосты.
О чем я, несчастный, должен думать и писать:
О хулиганстве, грубости и невоспитанности.
О воспитании лоботрясов и шалопаев (перевоспитание).
О легковесном отношении к любви, к браку, к семье.
О широких натурах за государственный счет.
О начетчиках и талмудистах в науке.
О консерваторах в сельском хозяйстве и промышленности.
Об истребителях природы.
Обо всяком, одним словом, дерьме!
Господи, боже мой! Помоги мне![645]
Дурная бесконечность подобных перечней создает впечатление бесконечного разнообразия тем советского фельетона. В действительности все они сводятся к единому знаменателю: советский фельетон был занят непрестанным созданием контролируемого образа Другого, каковым мог быть любой из этого списка. Контроль за производством Другого и его интерпретацией власть считала не менее важным делом, чем производство образа Народа как высшей легитимирующей инстанции. Эта задача не могла быть пущена на самотек или отдана на откуп сатирикам. Персонажи советского фельетона — это настоящий склад масок власти, которая в нужный момент меняла их в соответствии с политической целесообразностью.
Мы увидим, как советский фельетон выполнял эту функцию в комплексе с другими, превратившись в документальный жанр пропагандистской легкой кавалерии: в нем доминировала конкретика, он шел от факта, он не обобщал, как делал до него классический европейский фельетон или русский революционно-демократический. Эта смена оптики была частью стратегии нового жанра:
Важная функция официозного фельетона состояла не просто в борьбе с недостатками, но и в представлении общих пороков системы (таких как бюрократизация и неэффективность управления, отчуждение человека от государственных и общественных институтов, минимизация гражданских прав, тотальная идеологизация культуры и т. д.) в виде мелких, временных и преодолимых отклонений от становящегося идеала. Советский фельетон говорит: целое у нас — не такое , он «отмежевывается» от критикуемых явлений и персонажей[646].
Развившаяся в советском фельетоне близорукость от прежней генерализации вела к индивидуализации. Целый арсенал «художественных средств» (то есть пропагандистских приемов) работал на то, чтобы заполнить расширявшийся зазор между частным и общим. Он был выработан в борьбе наследников жанровой традиции 1920-х годов — как писателей (Зощенко, Булгаков, Олеша и др.), так и журналистов (Кольцов, Сосновский, Зорич и др.) с цензурными ограничениями, пусть и несколько менее жесткими, чем в 1930-е годы.
Если в фельетоне 1920-х годов доминировала стихия смешного (от легкого юмора до сарказма и гротеска) и типического (в нем фигурировали обобщенные и потому условные типажи мещан, бюрократов, жуликов, нэпманов и пр.), то в фельетоне сталинского времени на внутренние темы диапазон смешного был резко сужен (в нем не допускалась ни ирония, ни гротеск), и доминировал фельетон, высмеивавший конкретных лиц — носителей реальных имен. Эта конкретность выдавалась за действенность фельетона и торжество его журналистской природы. Персонифицируя недостатки, конкретизируя разоблачаемых людей (не персонажей, не типов, не явлений, но конкретных людей, виновных в разного рода нарушениях — от «принципов коммунистической морали» до «норм социалистической законности»), советский фельетон прошел путь от полноценных литературных произведений, граничащих с юмористическими или сатирическими рассказами, до… следственных дел, возбужденных «по следам фельетонов» против осмеиваемых в них героев. Финалы многих фельетонов и обращались, как мы видели, к прокуратуре, милиции или контрольной комиссии: куда смотрит прокурор, куда смотрят местные правоохранительные органы и т. д.
Фельетон 1930-х годов был далек от послевоенного благодушия. Он в полной мере использовал принцип генерализации. «Атмосфера критики и самокритики», царившая в советском публичном дискурсе эпохи Большого террора, была, как мы видели, смертельно опасной. Можно даже не обращаться к сатире 1936–1938 годов. Достаточно обратиться к написанному в 1939 году (то есть в момент короткой оттепели, наступившей после снятия Ежова) сатирическому стихотворному фельетону Николая Адуева «Капитон Заступако», где выводится эдакий защитник хулигана, хама, вора (объекты подчеркнуто бытовые). Из героя «так и прет всепрощенья труха», когда «под крылышко» берется каждый «якобы оступившийся». Но сатирик не склонен соглашаться с обвинениями в излишней суровости:
О «живом человеке» он любит кричать,
Об отсутствии мягкости и сожаленья…
Это ложь.
Мы умеем ошибки прощать
(Если это ошибки, а не преступленья).
Но умеем и сладить со сворой собак,
Преградившим дорогу нам с визгом и лаем.
Мы таких ни щадить, ни жалеть не желаем!
Так давайте в работу возьмем Заступак.
В 1939 году читателю не нужно было объяснять, к какой «своре собак» следовало быть безжалостным. И именно в это время было понятно, что любое проявление снисходительности было политическим жестом. Поэтому автор усматривает в своем Заступаке опасное социальное явление:
Так давайте их разоблачать на лету,
И кричащих: «Ну, с кем не бывает?», «Не троньте!» —
Ненавидеть — в работе, искусстве, быту,
На идейном и на производственном фронте.
Так давайте же зорко, как большевики,
Узнавать, не смущаясь обличьем младенцев,
Под губами слюнявыми сих всепрощенцев
Ядовитые, острые, вражьи клыки!
Переход от безоблачной «лирической комедии» к ненависти был органичным. Смена характера и тона советского фельетона после войны оказалась разительной. Это был эффект перевернутого бинокля, в котором мир генерализаций рассыпался на мелкие «отдельные недостатки».
Мы имеем дело с сегментирующей функцией советского фельетона. Резко меняется масштаб тем. Острые темы сменяются общими. Излюбленной становится тема воспитания: дети, родители, школа, учителя. Родители неправильно воспитывают детей — либо слишком их опекают, либо, напротив, не занимаются ими, а если занимаются, то формируют в них неправильное отношение к жизни; дети не заботятся о родителях, проявляют черствость; школа неправильно взаимодействует с теми и другими; учителя либо слишком строги, либо, напротив, слишком потакают ученикам, либо поощряют подхалимство, либо формируют в них несоветские качества и пережитки. Этот поворот к нравоучению и интерес к воспитательным темам связан с уходом от острых социальных и политических тем.
С масштабом тем меняется и масштаб типажей. В центре фельетонов оказываются уполномоченные министерств (но никогда не министры!), председатели райисполкомов (но никогда не облисполкомов!), секретари райкомов (но никогда не горкомов и тем более обкомов!), председатели колхозов, директора и главные инженеры предприятий и т. п. Они осуждались: начальник службы движения Горьковской железной дороги — за то, что не поддержал движение машинистов-пятисотников; председатель райисполкома — за то, что занял чужую жилплощадь; начальник конторы «Мелиоводстрой» — за то, что не обеспечил водой колхозы; председатель колхоза — за то, что не позаботился о теплых коровниках; заведующий жилищно-коммунального отдела горисполкома — за то, что окна в подъездах не открываются, и т. д.
Масштабу персонажей соответствует и масштаб обобщений. В фельетоне Кондрата Крапивы «Растите — не оглядывайтесь» (1947) рассказывается о том, что «Швейпром» выпускает слишком короткие брюки. Они перевыполняют план на 110 %, экономя на ткани — «у них как семьдесят сантиметров, так и брюки, — объясняет автору продавщица. — А цена на взрослые брюки одна — длинные они или короткие. А с такими, как вы, разве перевыполнишь промфинплан? Вам же одному нужно метр десять, если не все метр пятнадцать». Автор в растерянности: «Что же мне все-таки делать? Неловко же мне в таких брюках идти на заседание, скажем, в министерство легкой промышленности». И получает совет: «Купите сразу две пары брюк. Отрежьте штанины от одних и приточите другим. Будете иметь брюки и еще трусы в придачу».
В фельетоне Н. Кружкова «Ромео и Джульетта, или Правдивая повесть о починке брюк» (1940) обсуждается другая беда: негде заштопать брюки. Ромео умудрился прожечь брюки. В течение «пьесы» он пытается их заштопать, обращаясь в разные конторы, и не может обнять возлюбленную, так как «держит руки назади». А когда Джульетта предлагает: «Бедняжка, дай я заштопаю», Ромео «столбенеет от неожиданного счастья». В финале
Ромео сидит, укрывшись газетами, и блаженно дремлет. В голове его проносятся, подобно видениям, огромные вывески с чудовищно длинными, но бесполезными названиями: «Мосгоршвейкоопремонтсоюз» и др. Джульетта штопает брюки… Идиллия.
Вывод напрашивается сам собой: во всем виноваты плохие конторы.
Этому принципу осмеяния соответствует галерейный принцип, позволявший одновременно типизировать и не «обобщать». Характерны в этом отношении фельетоны главного редактора «Крокодила» Беляева. Это был настоящий советский Гоголь и Щедрин в одном лице, создавший целую галерею сатирических образов. Галерейный принцип был заимствован у классиков; нарративный прием (сказ) — у Зощенко; композиционное решение (саморазоблачающие монологи героя) — у Михаила Кольцова («Иван Вадимович — человек на уровне»). Хороший пример — рассказ «Болванчик» (Крокодил, 1949, № 2), где выводился приспособленец, мнимый защитник идейности, демагог и болтун. Последнее оправдывает интерес автора к речи персонажа. Здесь нет ни портрета, ни более или менее развитой внешней характеристики, ни динамичного сюжета. Единственный прием — речевая характеристика. Болванчик (такова фамилия этого «руководящего товарища») раскрывается главным образом через речь, посредством выступлений в той или иной аудитории. Причем выступает Болванчик всегда «в поучительном тоне», и эти его поучения, как иронически замечает автор, «всегда до предела ясны и прямолинейны».
Так, работникам села Болванчик говорит:
Вы должны понять, товарищи, что прежде, чем сеять, надо вспахать землю. А что требуется для того, чтобы вспахать землю? Для этого, товарищи дорогие, требуются тракторы. A какие тракторы? Исправные тракторы, товарищи. А почему? А потому, что неисправным трактором землю не вспашешь! A поскольку землю не вспашешь, постольку не посеешь, а поскольку не посеешь, постольку не пожнешь…





