Госсмех. Сталинизм и комическое
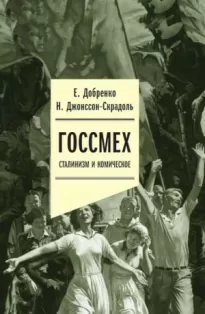
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Смешная голодовка
В образах диктатора и внешнего врага реализуются диаметрально противоположные проявления нахождения вне закона[265]: если первый вне закона постольку, поскольку он имеет право моделировать и сам закон, и отношение к нему, то второй может и должен быть осмеян как обреченный пребывать в заблуждении. Между этими двумя формами нахождения вне закона оказываются внутренние враги, те, кто не может апеллировать к незнанию как к смягчающему обстоятельству — в конце концов, как уже было сказано выше, в сталинской системе глупцов не было.
Не был глупцом для участников Февральско-мартовского Пленума ЦК РКП(б) 1937 года и Николай Бухарин, бесчисленные преступления которого находились в центре их внимания; с точки зрения членов ЦК, он просто притворялся. Именно поэтому его вчерашние товарищи смеялись над ним на Пленуме много и охотно, особенно когда речь заходила об объявленной отчаявшимся Бухариным голодной забастовке. Нижеприведенные отрывки из протоколов иллюстрируют общий тон общения между участниками заседаний:
[Кабаков]: Я не говорю о запугивании голодовкой. Бухарин никогда на голодовку не пойдет. [Буденный]: Он сказал, что с 12 часов ночи и до утра голодал, то есть всю ночь голодал. (Смех в зале.) Голодающий человек вряд ли по 5 стаканов воды будет пить в течение 50 минут.
[Молотов]: Два дня прошло, как голодовку объявил, а тут выступает и говорит: 4 дня голодаю. Хоть бы почитал свое письмо. Вот комедиант, актер Бухарин. Мелкий провинциальный актер. Кого он хочет растрогать? Ведь это же мелкий актерский прием. Это комедия голодовки. Да разве так голодают революционеры? Это же контрреволюционер Бухарин. (Сталин: Подсчета нет, сколько дней он голодал?) Говорят, он первый день голодал 40 дней и 40 ночей, второй день голодал 40 дней и 40 ночей, и так каждый день голодал 40 дней и 40 ночей. Это же комедия голодовки Бухарина. Мы все страшно перепугались, были в отчаянии. Кончилась голодовка. Он не голодающий, а просто актер, безусловно, небольшой, на смешных ролях, но актер налицо. (Сталин: Почему он начал голодовку ночью, в 12 часов?) Я думаю потому, что на ночь не едят; это медициной не рекомендуется. Товарищи, вся эта голодовка — комический случай в нашей партии. Все после будут говорить: вот комический случай был в партии с голодовкой Бухарина. Вот роль Бухарина, до которой он дополз. Но это не искусство ради искусства, это все для борьбы с нашей партией. (Голоса с мест: Правильно.)
[Жуков][266]: А чем вы [Бухарин] оплачиваете Центральному Комитету за его долготерпение к вашим мерзостям? Вы объявляете «голодовку». Действительно, правильно сказал Вячеслав Михайлович, что будущие поколения будут смеяться над Бухариным, голодавшим каждые сутки с 12-ти часов ночи до 10 час. утра! (Смех.) Позор. Разрешите вам напомнить, что эти троцкистские актерские фортели с разными немощами уже давно примелькались; ими занимался еще троцкист Иоффе лет 10 тому назад; Троцкий постоянно прибегает к ним и вся мировая печать всех буржуазных оттенков всегда заполняет сообщения об этом дрянном фашисте его заявлениями о болезнях сердца, печенки, селезенки, желчного пузыря и уж я не знаю, какие органы там отсутствуют. (Смех.)
В отличие от примеров, проанализированных выше, в данном случае сам объект осмеяния имеет право голоса — и именно поэтому над ним смеются, особенно когда речь заходит об объявленной им голодовке. Действительно, с точки зрения представляющего волю власти большинства объявление Бухариным голодовки является смехотворным, ибо оно указывает на принципиальное несоответствие его действий и слов сути данной ситуации. Как известно из классической теории смешного, именно неуместность (incongruity; поведенческая, словесная или ситуативная) вызывает смех. Бухарин попросту не осознает, что его жизнь ему более не принадлежит. Он не осознает, что действие известного ему фундаментального закона, утверждающего право индивидуума распоряжаться собственной жизнью, приостановлено, и что на смену ему пришло то, что Джорджио Агамбен определяет как «сила-закона», то есть чистое насилие, для которого в языке (еще) нет слов. Это «отсутствие слов» следует понимать буквально, так что статус участников в рамках, определяемых новыми нормами поведениями, устанавливается невербальными средствами — одним из которых является смех. Именно смех превращает всех участников Пленума в со-участников политической кампании, приучая их к дисциплинированному исполнению соответствующих ролей. Как со-участники производства языковых формул, они не должны говорить ничего от собственного лица, а лишь повторять, снова и снова, то, что уже было одобрено всей группой как правильное определение отношения к ситуации. Поскольку смех в данном случае — знак безусловного одобрения, не удивительно, что после каждого взрыва смеха участники пленума начинают повторять снова и снова вызвавшие смех слова, делая упор на то, что все происходящее безусловно смешно («комический случай в нашей партии», «вот комический случай был в партии с голодовкой Бухарина», «будущие поколения будут смеяться…»). Именно таким образом само слово «голодовка» приобретает оттенок гротескного понятия, как и счет часов и дней «голодовки» и количество выпитых стаканов воды.
Если советский диктатор при каждом своем публичном появлении артикулирует (еще) неписаный закон, то его жертвы пытаются адекватно выразить свое понимание этого закона — не всегда успешно. Предлагая выход, который, как ему кажется, должен быть наиболее приемлемым с точки зрения членов ЦК, Бухарин еще больше смешит своих вчерашних товарищей по партии:
[Бухарин]: Я не могу выстрелить из револьвера, потому что тогда скажут, что я-де самоубился, чтобы навредить партии; а если я умру, как от болезни, то что вы от этого теряете? (Смех. Голоса с мест: Шантаж! Ворошилов: Подлость! Типун тебе на язык. Подло. Ты подумай, что ты говоришь.) Но поймите, что мне тяжело жить. (Сталин: А нам легко? Ворошилов: Вы только подумайте: «Не стреляюсь, а умру».)
Часто, и справедливо, говорится о том, что при сталинизме человеческая жизнь не имела цены. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, можно сказать, что именно при сталинизме человеческая жизнь приобрела особую ценность — как средство коммуникации власти с гражданами. Именно поэтому невозможно было и помыслить о том, что кто-то решит отказаться от приема пищи по собственной воле, а не по воле партии: само это допущение было буквально смешным. Язык отношений между властью и гражданами включал в себя все проявления их физического существования, становясь в большой степени языком тела.
Невозможно ни доказать, ни опровергнуть предположение о том, что «смеющаяся толпа» (по меткому выражению Бахтина) на пленуме знала, что Бухарин будет принесен в жертву, что они «обрекли его на смерть», по известной формуле, которую Фуко вывел для определения характера суверенной власти[267]. Один из парадоксов сталинского террора заключался в том, что зачастую именно там, где решалась судьба самых видных фигур политической жизни страны, присутствовал элемент игры, и все было как бы «понарошку». Так, бухаринская голодовка, его угрозы покончить с собой, его мольбы о том, чтобы ему разрешили умереть «как будто от болезни», отметаются как «дешевые трюки провинциального актера». При этом сам мучитель представляется страдальцем («а нам легко?»), а медленное, садистское убийство становится честным обсуждением недопустимого поведения оступившегося товарища по партии, чтобы обеспечить наибольшую эффективность следствия, если необходимость в таковом возникнет. В культурологической литературе последних десятилетий часто упоминается бахтинский карнавал. Однако карнавал — это действо, в котором то, что кажется на первый взгляд убийством, оказывается всего лишь прелюдией к веселому празднеству, пытки обращаются розыгрышами, и ни один из участников так называемых официальных церемоний не является на самом деле тем, кем кажется. Не будем рассматривать аргументы за или против применения термина «карнавал» к сталинским реалиям; тем не менее представляется возможным назвать происходившее на Пленуме 1937 года «карнавалом наоборот», по аналогии с бахтинским кратким определением сути карнавала как «мира наоборот»[268]: то, что представляется вначале лишь неформальным обсуждением проступков товарища (пусть и бывшего) по партии, вдруг оборачивается кровавой драмой, судом без закона. Советский юмор уже пережил ту трансформацию, о которой говорит Игал Халфин[269]: невинные товарищеские шутки переросли в издевательства и обвинения в сокрытии своего истинного лица; языком карнавала говорит сила-закона.
Известно, что Бахтин акцентировал освобождающую функцию смеха, утверждая, что «насилие не знает смеха»[270], за что, как говорилось выше, его работы впоследствии подвергались критике. Анализ смехового элемента сталинского политического (анти-) карнавала позволяет совместить оба взгляда на политическую и дисциплинарную функцию смеха.
Жестокий смех членов ЦК можно рассматривать как освобождающий постольку, поскольку система, от имени которой эти люди действуют — а точнее, смеются, — намеренно пренебрегает традиционными моральными и юридическими нормами, которые наделяют человеческую жизнь значением, выходящим за рамки удовлетворения непосредственных физиологических потребностей. Человеческое тело должно есть, пить и спать; человеческое тело, отказывающееся это делать, угрожающее положить конец самому своему существованию, смешно, ибо оно призывает признать символическое значение повседневных проявлений физического начала в человеке — при том, что это значение отменено логикой (анти-)карнавала, сводящей жизнь к физиологии. Закон тоталитарный совпадает с законом естественным; любое проявление несогласия или сомнения противозаконно и противоестественно в одинаковой мере, встречается смехом, призывами «ты подумай, что ты говоришь» и классифицируется как «шантаж» и «подлость». В то же время сведенная к физиологии жизнь неотвратимо становится фокусом прямого приложения высшей власти, не ограниченной действием закона, и смех оказывается возможным как канал передачи воли этой власти: именно после того, как раздается коллективный смех, участники Пленума начинают выкрикивать с мест свои характеристики предложения Бухарина покончить с собой. Таким образом, смех в политически значимых контекстах является напоминанием абсолютного подчинения собственной воли и собственного тела интересам власти — что относилось в равной мере и к смеющимся, и к объектам смеха.
В единственной пока посвященной критическому анализу смеха на Пленуме 1937 года статье Жижека «Когда партия совершает самоубийство»[271] цитируется «Процесс» Кафки, в одном из эпизодов которого судья спрашивает у К., каков род его занятий, и простая констатация факта (К. — служащий банка) вызывает у присутствующих приступ истерического хохота. Классическая кафкианская сцена иллюстрирует важную составляющую состояния исключения, при котором традиционные структуры закона отменяются, а именно — неизбежное несовпадение между восприятием нововведенных законообразующих и околозаконных практик разными вовлеченными в них акторами. Это несовпадение будет существовать по крайней мере до тех пор, пока эти практики не обретут фиксированный законный статус, то есть на всем протяжении фактического действия состояния исключения. Смех оказавшихся в конкретный момент на стороне властей предержащих указывает на то, что противная сторона приписывает происходящему значение, отличное от угодного структурам власти. Подобно неуклюжим частушечным «дедам» и «миленкам», которые как бы промахиваются с определенной новой властью функцией предметов, жертвы сталинской системы смешны, потому что не могут попасть в такт закона, постоянно трансформирующегося, создающегося на их глазах.





