Госсмех. Сталинизм и комическое
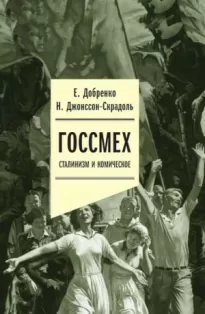
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
* * *
Кто ждет раскаянья от Виктора Чернова?
Нет, он неисправим, эсеровский Корней!
Белогвардейская все та же в нем основа.
Чтоб волк эсеровский не рвался до мясного,
Не оставляй ему — не то зубов: корней!
Так дело будет поверней!
Возможно, здесь мы также имеем дело с одним из мотивов, который нашел развитие в эпоху Большого террора. Игал Халфин указал на характерное свойство личных имен, ставших в дискурсе сталинизма на место предикатов (наиболее ярким примером является выведение понятия «троцкист» от фамилии), когда «предикат, указывающий на тип, на абстракцию, был заменен на прямую идентификацию объекта»[538]. Можно утверждать, однако, и обратное: имя собственное в определенных случаях расширяется до размеров общего предиката, и как таковое оно (в применении не к его носителю) проходит эволюцию от прозвища/ругательства/насмешки до уголовного обвинения. Интересно, что именно о предикативной функции говорил Потебня в своем анализе басни, утверждая, что цель басни в том, чтобы «быть постоянным сказуемым [предикатом] переменчивых подлежащих».
И Халфин, и Потебня говорят об одном и том же механизме инструментализации имени и личностных качеств: в то время как конкретные личности, конкретные качества могут меняться, предикат (чужое имя, оно же прозвище, или же вся образная конструкция, которая выстраивается, например, в басне) остается неизменным. И здесь ключевую роль играет юмористический эффект — сам момент перехода частного в общее, тот момент, когда обзывание становится называнием. О переходах, трансформациях Бахтин писал много как о ключевой точке карнавализации; в данном контексте нас больше всего могут заинтересовать его размышления о природе прозвища по отношению к имени:
Если именем зовут и при зывают, то прозвищем скорее прогоняют, пускают его вслед, как ругательство. Оно возникает на границах памяти и забвения. Оно делает собственное нарицательным и нарицательное собственным. Оно по-особому связано с временем: оно фиксирует в нем момент смены и обновления , оно не увековечивает, а переплавляет, перерождает, это — «формула перехода»[539].
Здесь прослеживается вся логика режима, в котором преходящее фиксируется более постоянным, а личностное поведение обретает смысл в общей системе только как проявление поведения типового; человек становится понятен только как представитель определенного типа. Предполагается, что лишь фиксированный, обобщенный предикат указывает на истинную сущность индивидуума. Вернувшись к образу Шейлы Фитцпатрик, можно сказать, что «срывание масок» возможно только посредством другой, более точно выбранной маски.
Замена имен на прозвища, частного на общее, ви´дение масок в естественном поведении — характерные черты послереволюционной советской карнавальности. Но именно басня как жанр, и тем более — басни Бедного, с их спецификой сочетаний несочетаемого и нагромождением семантических полей, значимы тем, что они захватывают сам момент перехода, акцентируют его — момент раскрытия новой, действительной сущности, когда вор Корней, став эсером Черновым, превращается в волка, рвущегося «до мясного».
В этом контексте новое значение приобретает мысль Агамбена о том, что «история — место имен»[540]. Если история есть место имен, то, обзывая/называя людей чужими (то есть как бы на самом деле их истинными) именами, басня тем самым предлагает смещение временных пластов в истории во имя ее правильного прочтения, подразумевающего момент узнавания[541]. А «правильное» прочтение комично, как комичен (при отсутствии реальной опасности) любой момент узнавания того, что пыталось остаться скрытым. Интересно, что об особой значимости моментов узнавания прежде скрытого писал и Фрейд в своей работе о шутках. Он определил такие моменты как Lustvoll — «доставляющие удовольствие»[542].
Конечно, доставляет удовольствие такой момент далеко не всем, равно как не все находят его смешным. Те, кто не понимает сути трансформаций, оставшись в старом мире, могут быть удивлены или напуганы, как то происходит со старушкой, увидевшей попа, притворившегося красноармейцем и заговорившего вдруг на новом языке:
Родной, желанный!
Зачем ты косу-то, отец ты наш, остриг?
Аль надругался кто, болезный, над тобою?!
Те же, кто смотрит правильно, кто видит суть вещей, рассмеются, потому что увидят, насколько поддельные герои новой жизни оказываются смешными, ибо метаморфозы их обречены на провал. И тут надо обратиться к очень важному моменту в баснях Бедного, а именно — взгляду рассказчика. Рассказчик во всех баснях вообще всегда является носителем некоего высшего, абсолютного знания. Рассказчик в баснях Бедного, помимо прочего, во-первых, обладает чувством юмора, а во-вторых — является в буквальном смысле слова свидетелем, зафиксировавшим те именно моменты, где и проявляется в основном юмористическое, то есть те моменты, где раскрывается истинная природа героев. Этот свидетель-рассказчик с правильной политической позицией и острым взглядом рассказывает, что последовало за распознаванием попа в одежде красноармейца:
Друзья-товарищи, мне слышатся вопросы:
«Что было дальше?» — Чудеса:
Не докуривши папиросы,
Вознесся поп на небеса!
Когда этот просвещенный свидетель и куда менее политически просвещенные граждане смотрят на одно и то же явление или человека, только просвещенному свидетелю дано увидеть все в правильном, то есть смехотворном виде. Тому пример — произошедшее в некоем политическом кружке, где только он один, оказавшись среди множества «интеллигентиков», смог разглядеть сущность фальшивого «политического активиста».
В собрание одно на днях попав случайно,
Был удивлен я чрезвычайно.
Псой объявился тут. Растрепанный и злой,
Кричит: «Долой! долой!»
Бранит большевиков и чем-то их стращает,
Эсеров очень восхищает.
Интеллигентики от Псоя без ума:
Вот, дескать, мудрость где народная сама!
А то скрывают крохоборы,
Что мироед у них пришел искать опоры!
Присутствие морализирующего голоса здесь просто необходимо — именно эти объяснения того, что хорошо, а что плохо, делают не отличающиеся поэтической виртуозностью и стилистическим разнообразием тексты Бедного ценными для воспитания людей нового режима, и именно они дают нам возможность говорить об элементах поучающего, морализирующего басенного жанра даже в тех стихах, которые не обозначены как басни и по строгим литературном канонам, возможно, и не могли бы считаться таковыми. Умение видеть смешное в определенных ситуациях и в определенных образах, санкционированное идеологией, не только отделяет друзей от врагов, но и определяет важность позиции свидетеля, видящего то, что нужно. Эта фигура, безусловно, будет незаменима для советской системы в последующие годы, в ситуациях, которые уже не будут ограничиваться лишь насмешками над неловкой маскировкой горе-героев. Смеющийся свидетель — не просто тот, кто видел, но тот, кто знает, чтó именно он видел; тот, кто умеет правильно прочитать образы, перевести кажущиеся непонятными иероглифами реалии новой жизни на простой — простейший — уровень.
Именно поэтому басни не особенно талантливого поэта Демьяна Бедного были идеальным инструментом пропаганды советского режима первых десятилетий — но именно первых десятилетий, или даже одного десятилетия. К началу 1930-х интуиция поэта, подсказывавшая ему, что должно быть наиболее привлекательным для властителей советской идеологии, стала его подводить. Он был обвинен (и на самом высоком уровне) в насмешке над национальным наследием и русской народной литературой. А спустя несколько лет, в 1936 году, опера, для которой он написал либретто, была запрещена. Бедный пропустил момент, когда изменилось отношение государственной идеологии ко всему связанному с национальной традицией, которую теперь следовало почитать, а не превращать в объект сарказма. К падению Бедного привело именно то, что Игорь Кондаков точно определил как «„перебор“ Демьяна с простотой, которая начала казаться сознательной издевкой над пропагандируемыми им примитивными идеями»[543]. Дети революции выросли, и стало неуместно, более того — подозрительно, обращаться к ним на языке их детства. Вульгарный, предельно упрощенный стиль Бедного стал работать против него.





