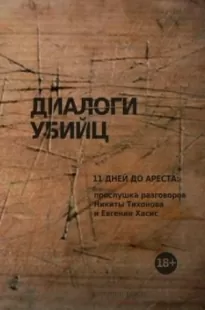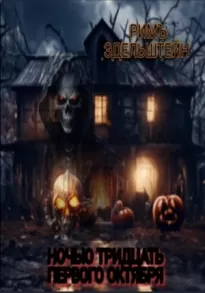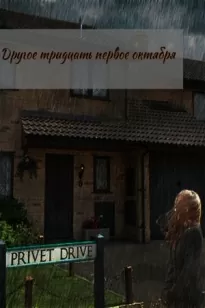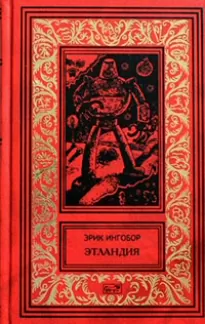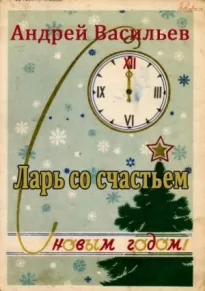Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине
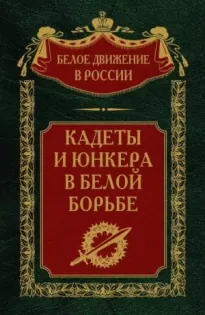
- Автор: Сергей Волков
- Жанр: Документальная литература / Биографии и Мемуары
Читать книгу "Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине"
«Похороны». Таковые проводились дважды – в первый раз «хоронили» анатомию, во второй раз «все науки». Бедную анатомию, насколько еще помню, мы хоронили по окончании 6-го класса. В гроб, сколоченный из досок, клалось несколько учебников анатомии и сверху – вырванный из учебника же скелет, то есть рисунок со всеми мышцами, органами и костями. «Хоронили», конечно, тайком от начальства, которое об этом было осведомлено, так как в свое время и само хоронило анатомию. Около полуночи выбирались из казарм в назначенное место (у нас это производилось на горе, над зданиями корпуса), откуда нас не могло быть слышно и видно. Последнее было также важно, так как в руках у нас были зажженные свечи, а кроме того, еще раскладывался костер. Но мой выпуск перестарался. Вместо того чтобы потихоньку взобраться на гору, минуя все дороги и городские улицы, мы решили «шикануть» и в белых простынях, с зажженными свечами и гробом впереди, прошли через город. «Главы и очи понурив долу» четыре кадета на высоко поднятых руках несли «гроб», а в гробу лежала несчастная старушка анатомия. Время от времени я всхлипывал и вопил: «Сик транзит глориа мунди!» По дороге попались стражник и двое солдат-сербов. Они тотчас же вытянулись во фронт и лихо отдали честь, а кадеты едва могли сдержать смех. Слава богу, никто не прыснул. На горе ожидал разложенный костер («могила» была выкопана заранее). Тут мы предали анафеме директора корпуса и безобидного старичка профессора, а затем, под вопли и стенания, предали несчастную старушку погребению. Этим церемония и закончилась.
Приблизительно таким же образом хоронили мы и все науки. В этом случае сожжению предавались учебники по разным отраслям наук. Помню, что в нашем выпуске, из-за недостатка учебников, мы воздержались от сожжения всех и просто символически бросили в костер три-четыре книги. По окончании похорон был устроен «ночной смотр», или, как его еще называли, «шванц-парад». Само название указывает на заимствование традиции у немцев или австрийцев. Выпуск прошел церемониальным маршем мимо атамана, причем форма одежды была такова: 1) фуражка, 2) сапоги, 3) пояс и 4) адамов костюм. Не надеть пояса считалось неприличным. Так как звуки духового оркестра могли бы указать на наше местопребывание, марш напевался всеми вполголоса.
Не могу удержаться, чтобы не рассказать о случае, приключившемся, правда, не у нас, а в соседнем Русском кадетском корпусе в городе Сараево. Хоронили анатомию. Не в меру рьяный дежурный офицер перестарался и, усмотрев в похоронах безобразие и отклонение от дисциплины, занес этот факт в журнал дежурств. Было ясно, что офицер никогда не учился в кадетском корпусе и традиции ему были глубоко чужды. Утром журнал, как всегда, вместе с устным рапортом был подан директору, генералу Адамовичу. Тот прочитал: «Кадеты такого-то выпуска хоронили анатомию». Не моргнув глазом генерал наложил резолюцию: «И вечная ей память!»
Традиционные парады. Последние бывали в высокоторжественные дни, начиная с корпусного праздника, в день 6 декабря. В них могли участвовать не только кадеты старшего выпуска и следующего за ним, но и вообще все классы. Они устраивались после официального корпусного парада. При этом также старались соблюдать тайну, но, так как в этом принимал участие и хор трубачей, то, конечно, это было секретом полишинеля. Когда кадеты уже были выстроены, появлялось традиционное начальство с атаманом во главе. Трубачи играли Атаманский встречный. Парады проходили в очень серьезной атмосфере, а речи атамана и товарища атамана были исполнены призывов хранить кадетские традиции и любить Родину. Все заканчивалось прохождением церемониальным маршем перед атаманом и традиционным начальством.
Рядом с атаманом находилась «Ее превосходительство Звериада», которой после отдельно кричали «Ура!». Иногда парады этим не заканчивались. После команды «Вольно, разойтись!» кадеты окружали своего атамана и начиналось пение песен – традиционной «Звериады», «Журавля» (пелись бесчисленные куплеты «Журавля», но нашим, донским «Журавлем» был один куплет: «А как выпить-закусить – у донских кадет спросить»), старых и новых казачьих песен и песен Добровольческой армии. Обычно начинали с традиционной:
Братья, все в одно моленье души русские сольем!
Ныне день поминовенья павших в поле боевом.
Но не вздохами печали память храбрых мы почтим:
На нетленные скрижали имена их начертим.
А потом переходили на наше любимое:
Тише, тише, все заботы прочь в эту ночь! В добрый час спите, Бог не спит за вас…
И обычный припев:
Может, завтра после боя нас на пиках понесут
И зеленую рубаху кровью алою зальют…
Так наливай, брат, наливай, наливай полнее!
Выпивай, брат, выпивай, выпивай живее!
Приносили сюда и бутыли с «искрящимся», и нехитрую закуску, чокались и пили за многое, что дорого было кадету. Кто-нибудь заводил нашу вторую традиционную:
Мы лихие донские кадеты, дорог нам темно-синий погон.
Старой Родины чтим мы заветы: любим Русь и широкий наш Дон.
На скалистых утесах Билече, средь развалин угрюмых фортов,
Мы приняли на юные плечи тяжесть прежних российских грехов.
Мы лелеем в душе беззаботной завещанья великих отцов,
И за край наш Отчизны свободной мы умрем средь казачьих полков…
Одна за другой лились песни… Одна другой дороже и сердцу ближе. Кто-нибудь рявкал: «А ну, ребята, корниловскую!» – и Шурка Шевченко (мир праху его!), или Павлик Крипаков, или Коля Богаевский заводили:
Пусть вокруг одно глумленье, клевета и гнет.
Нас, корниловцев, презренье черни не уймет.
Вперед, на бой! На бой, кровавый бой!
Много было куплетов, всех здесь и не передать. Интересна, между прочим, история этой песни. Был в Корниловском полку один донской казак, прапорщик А.П. Кривошеев. Пописывал стишки. Написал это стихотворение, и офицеры рассказали об этом генералу Корнилову. «А ну-ка, прапорщик, покажите, что вы там написали…» Прапорщик переписал начисто, на каком-то скромном листочке, – ведь и бумаги-то не было, – передал генералу. Тот прочел, очень одобрил и сунул в карман тужурки, буркнув: «Это я себе…» С этой бумажкой Корнилов не расставался до самой смерти. Измятую и пожелтевшую бумажонку со стихами нашли на его теле. Так, вдохновением и кровью вписывались в историю нашей Родины одни из самых жертвенных ее страниц:
Верим мы: близка развязка с чарами врага.
Упадет с очей повязка у России, да!
Этот эпизод с происхождением песни был записан в июле 1918 года и напечатан в журнале «Донская волна», № 5, от 8 июля. Не забывали, конечно, и песню Студенческого партизанского батальона на Дону: «Вспоили вы нас и вскормили, Отчизны родные поля…» Песня не забылась, а вот что пели ее и сочинили впервые в Студенческом батальоне – это уже многими позабылось.
Но молодость берет свое, и долго минорное настроение среди нас не задерживалось – улетучивалось, а тут еще винцо помогало… Переходили на веселое, а заканчивали, по старому обычаю, лихой казачьей пляской.
Звания. Все кадеты старшего выпуска считались «господами хорунжими», а «есаулами» были те, что остались на второй год. Так как автор этих строк оставался не одиножды, а дважды, будучи не в ладах с математикой, то и закончил он корпус «господином войсковым старшиной». В оправдание добавлю, что в Египте со мной вместе на второй год осталось больше половины класса – мы предпочитали купание в Суэцком канале математике. Такова жизнь! Право «есаула» было, помимо старшинства и всеобщего уважения (а сам старался говорить басом!) еще и носить выпускной жетон не там, где все смертные носят (на пуговице левого погона), а свешивающимся с третьей пуговицы на груди мундира-гимнастерки. Грудь при этом, конечно, выпячивалась – елико возможно.
Передача традиций и регалий; производство. Особенно торжественно была обставлена передача восьмым классом седьмому всех регалий. В этот день старшим традиционным классом становился седьмой, атаман передавал свою булаву новому атаману, товарищ атамана передавал бунчук новому товарищу атамана, а главное – вручалась Звериада. Оба выпуска выстраивались друг перед другом, атаманы – перед фронтом. Читался приказ уходящего атамана. Он сопровождался речью о значении традиций в нашей кадетской жизни, в особенности за рубежом. Атаман подчеркивал, что традиции не побрякушки и не шутки подростков, а что они олицетворяют для нас связь с далекой Родиной, что мы обязаны донести их нетронутыми до того дня, когда Россия и Дон станут свободными от большевистского ига. Далее он говорил, что необходимо поддерживать строгую воинскую дисциплину среди младших кадет, воспитывать их в духе традиций и оказывать им посильную помощь и в академическом, и во всех других отношениях. В конце речи он поздравлял младший выпуск с производством в господа хорунжие. После этого уходящий атаман брал из рук своего адъютанта «Ее превосходительство Звериаду» и торжественно передавал ее новому атаману, а тот своему адъютанту. Товарищ атамана передавал свой бунчук новому товарищу атамана, а в конце уходящий атаман под звуки «Атаманского марша» передавал свою булаву. Новый атаман обычно держал ответную речь, обещая хранить традиции.
После этого старый, уходящий выпуск проходил церемониальным маршем перед младшим – они теперь являлись старшими традиционерами.
Этим, собственно говоря, можно было бы и закончить наше повествование о традициях родного корпуса, но я должен упомянуть еще об одном факте, который также относится к традициям. Это цук. Именно по традиции у нас не было, да и не могло быть речи о каком бы то ни было цуке. Эта традиция красной нитью протягивалась в стены корпуса из сотни Николаевского кавалерийского училища, где отношение к цуку было крайне отрицательным. Делаю выписку из книги «Кадеты и юнкера» талантливого автора многих книг и очерков из военной жизни А. Маркова: «…Казачья сотня показалась мне народом солидным, хотя благодаря казенному обмундированию и не имевшим столь щеголеватого вида, как наши «корнеты». Эти последние в столовой почти ничего не ели, а продолжали, как и в помещении эскадрона, «работу» над нами, строго следя за тем, чтобы «молодые» во время еды не нарушали хорошего тона, и поминутно делали нам замечания по всякому поводу. Дежурный офицер во время завтрака прогуливался между арками, сам не ел, а вел себя вообще как бы посторонним человеком, не обращая внимания на цук, имевший место в столовой. Как я после узнал, это происходило лишь в те дни, когда по Школе дежурили офицеры эскадрона. Казачьи же офицеры никакого беспорядка в зале не допускали». Вот это-то и было заложено в сотне Николаевского кавалерийского училища и позднее перешло в наш корпус – органическое отталкивание от цука. Что бы мне ни доказывали его сторонники, выставляя «воспитательную сторону» цука, уверяя, что именно таким методом выковывается и закаляется настоящий материал для офицерского состава – я буду стоять на своем. Как бы остроумны и забавны ни были некоторые приемы цука, но я усматриваю в нем прежде всего недостаток уважения к человеческой личности и некоторую ненужную издевку. Но спорить по этому поводу бесполезно, друг друга мы убедить не сможем, а потому я и ограничиваюсь лишь указанием на существование в нашем корпусе этой традиции – никакого цука!