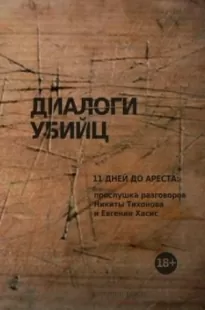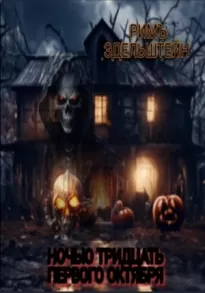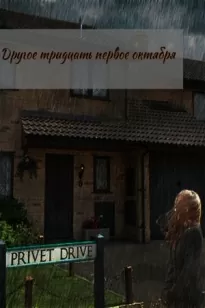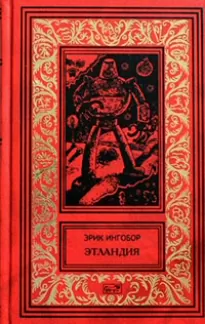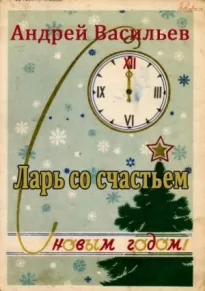Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине
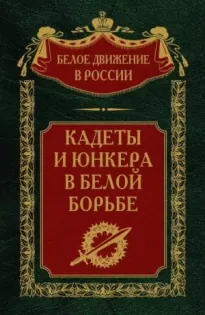
- Автор: Сергей Волков
- Жанр: Документальная литература / Биографии и Мемуары
Читать книгу "Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине"
* * *
Кадеты шли с песнями. Прохожие с любопытством останавливались, одни смотрели, казалось, с недоумением, другие махали руками на прощание. Прошли главную, Московскую улицу с гулявшими, как всегда, по тротуарам людьми. Иные останавливались и смотрели на колонну кадет. Пройдя Платовский проспект, спустились к окраине города, миновали последний уличный фонарь и вскоре вышли на полевую дорогу, идущую по равнине, поглощенной ночной тьмой. Был легкий мороз, снег хрустел под ногами. Стало известно, что идем в Старочеркасск. Строй почти не соблюдался, требовалось только не растягиваться. Привалы делались очень короткими, чтобы никто не уснул и не потерялся. Пройти предстояло около 15–20 километров.
В Старочеркасск пришли после полуночи и остановились на ночлег в известном на Дону Старочеркасском монастыре, в котором оставались всего только несколько часов. Немного поспали, отдохнули, поели и перед рассветом приготовились к походу в станицу Кагальницкую, находившуюся в расстоянии примерно в 75 километров.
Мороз и снег в степи чередовались с оттепелью с таким туманом, что не было ничего видно дальше чем на 20–30 шагов. Дорогу можно было определить только по колеям от возов. Встречные были редкостью, колонну иногда обгоняли одиночные всадники.
Вечером 24 декабря пришли в Кагальницкую, и на следующий день была дана дневка – отдых, высушивание одежды и обуви. Несмотря на почти 100-километровый поход, все были в хорошем настроении, пели песни. В помещение кадет вдруг вошла интересная дама в полушубке, с револьвером на поясе. Она что-то спросила и направилась к офицеру, сидевшему среди группы кадет. Оказалось, что это его жена, которая покинула Новочеркасск после ухода кадет и теперь догнала их. Счастливая встреча с мужем привела ее в хорошее настроение, и она присоединилась к пению. Создалась почти семейная обстановка.
Пребывание в станице Кагальницкой омрачилось приказанием разоружиться. Очевидно, начальство желало придать кадетам вид обыкновенных школьников и тем предохранить их от возможных неприятностей. Однако это приказание вызвало у кадет большое удивление: они, в возрасте 13–15 лет, показали себя во время долгого похода совсем неплохими солдатами, а часть их была уже раньше награждена Георгиевскими медалями. Кроме того, положение вообще было такое, что даже женщины вооружались! Да и форма одежды оставалась военной и после разоружения! Приказание было, конечно, исполнено, но уже в самом ближайшем будущем пришлось пожалеть об отсутствии винтовок, хотя в конце концов все кончилось благополучно.
Утром 26 декабря выступление в направлении к станции Кущевка, Владикавказской железной дороги. Расстояние примерно в 90 километров прошли в четыре перехода. На ночлег останавливались, как и раньше, в школах. Стояла оттепель, снег таял, промоченная обувь не успевала высохнуть за ночь. В последнем перед Кущевкой селении, название которого забылось, провести ночь спокойно не удалось из-за враждебного отношения населения. Спать не рекомендовалось. Безоружные кадеты патрулировали на улицах. В селении не удалось достать почти ничего, но ночь все же прошла без особых инцидентов.
29 декабря пришли в Кущевку ночью. Стояла непроглядная тьма, и только лай собак напоминал, что здесь живут люди. Улица была покрыта жидкой грязью с невидимыми под ней ямами. Попадая в них, кадеты обдавали друг друга слякотью, которая залетала и за воротники, и в карманы шинелей.
Впереди послышались голоса и ржание коней и показался свет фонаря в начале моста через реку Ею. Перед мостом было скопление людей, коней и повозок. Деревянный мост был, вероятно, очень старым: местами недоставало досок в настиле, не было и части перил. Одна из повозок застряла на мосту и остановила движение прочих повозок. Между тем через мост проходила в том же направлении, на юг, большая конная часть, как говорили – кубанская. Всадники шли гуськом, надеясь, очевидно, на инстинкт лошадей. Вереница их казалась бесконечной, и, как оказалось потом, конница шла еще и в 8 часов утра.
Колонне кадет предоставлялся выбор: или ждать в грязи до утра, или пробираться через мост одновременно с конницей, тоже гуськом, по одному-два человека. Начальство выбрало второе. Кстати, около полуночи лошади из застрявшей повозки были выпряжены и уведены, а сама повозка сброшена с моста в воду. Сбор был назначен на станции, откуда предполагалась отправка кадет уже по железной дороге.
Переход через мост продолжался до 5 часов утра, а дорогу к станции кадеты узнавали потом в здании местного правления, у входа в которое висел горевший фонарь.
На станции в теплом зале ожидания весь пол был усеян спящими людьми. Можно было думать, что среди них были и больные тифом, а потому кадетам рекомендовалось оставаться на платформе. Перед рассветом был легкий мороз, мокрые шинели подмерзли и хрустели. Вдруг откуда-то появился кипяток, и кадеты стали его расхватывать в свои грязные кружки, висевшие на поясах. Вкус воды отдавал не то паровозом, не то грязью в кружках, но кадеты пили воду, не обращая внимания на ее вкус и закусывая куском сахара.
Единственный состав, находившийся на станции, состоял из нескольких товарных вагонов, стоявших на запасном пути. Хотя вагоны и были пустыми, но до сих пор никто ими не воспользовался, так как по сведениям, полученным от станционного персонала, в них перевозили тифозных, частью уже мертвых. Выбора, однако, не было!
Кадеты принялись за работу. В виде дезинфекции выпалили внутренность вагонов соломой, затем доставили железные печки, нанесли свежей соломы и устроились в них вместе с начальством. В тот же день, 30 декабря, вагоны были прицеплены к товарному поезду, который на следующий день привез их в Екатеринодар.
В Екатеринодаре корпус встретил директор, генерал Чеботарев, и командир 3-й сотни, полковник Васильев[226]. Кадеты были помещены в театре, на соломе. Ни название этого театра, ни той столовой поблизости, где варился такой вкусный борщ и жарились такие же вкусные котлеты, в памяти не сохранились. Вообще же питание было очень хорошим.
Однако сразу же начались заболевания тифом. Затем корпус был перевезен по железной дороге в Новороссийск, а больные остались в Екатеринодаре. Большинство из них, выздоровев, успели присоединиться к корпусу в Новороссийске.
В Новороссийске кадеты были помещены в одноэтажной городской казарме. Здесь же в городе находилась и 1-я сотня, к тому времени очень малочисленная из-за заболеваний тифом – в ней было едва ли больше 30–35 кадет. Помещалась она где-то отдельно. Командовал ею генерал-майор Леонтьев. Его чин, понятно, не отвечал должности, но, давно уже произведенный в генералы, он не захотел расставаться с корпусом. Он пользовался общим уважением, умел обращаться с кадетами, был заботливым командиром, строгим, но справедливым, и его энергия никогда не ослабевала. Особенностью жизни в Новороссийске были нападения зеленых на город. Они грабили и убивали, а затем исчезали в горах. Эти нападения все время учащались, и к концу пребывания корпуса в городе происходили чуть ли не каждую вторую ночь. Однажды зеленые перерезали весь солдатский караул и освободили своих, взятых в плен. Это случилось неподалеку от казармы, где спали кадеты, не подозревавшие о происходившем. Гарнизон Новороссийска был небольшой, и его поддерживало военное судно, стоявшее в порту. Оно освещало прожекторами подступы к городу и обстреливало их своей артиллерией.
Кадеты 1-й сотни несли караульную службу. Позже к тому же были привлечены и другие кадеты, караулившие малые склады. Винтовки в таких случаях они получали от смененного караула, других не было.
При тревогах безоружная часть кадет выстраивалась вместе со своими офицерами на дворе казармы и стояла так до конца тревоги. Кто-то из кадет назвал в шутку этот порядок «встречей зеленых». Действительно, на это было похоже! Что могли сделать безоружные кадеты?
В Новороссийске скончались от тифа директор корпуса генерал-лейтенант Чеботарев и командир 3-й сотни полковник Васильев.
Однажды в феврале кадет посетил капитан Крэг, из британской военной миссии. Он говорил по-русски, с улыбкой обменялся с кадетами несколькими словами и, пробыв минут десять, ушел. Визит его был вскоре забыт кадетами, но не Крэгом, который с этих пор стал вершителем судьбы корпуса.
21 февраля 1920 года пронесся слух, что завтра состоится погрузка на пароход. Как начальством, так и кадетами слух был встречен с сомнением. Около трех часов утра следующего дня – очередная тревога: гул артиллерии, трескотня пулеметов и винтовок… Кадеты простояли в строю минут двадцать. Потом все утихло. Тревога будто бы запоздала, и после нападения зеленые были уже в горах. После шестинедельного пребывания в Новороссийске эта ночь оказалась последней на русской земле!
22 февраля 1920 года последовал приказ о посадке на пароход «Саратов». Прибыл новый директор корпуса генерал-лейтенант Черячукин[227].
На пароходе было много пассажиров, частью – раненых. Были и женщины. Кадеты были помещены в трюме, среди тюков каких-то товаров. В тот же день вечером пароход вышел в море. Куда шел «Саратов», никто не знал, но можно было думать – в Турцию. Капитан Крэг был на пароходе, но не показывался.
Первая остановка была в Константинополе, где пароход простоял на рейде несколько дней. Пронесся слух, что здесь высадят женщин. Это было против их желания, и одна из них даже бросилась вечером с борта в воду. Спасла ее надетая на ней шуба, которая удержала ее на поверхности воды, пока матросы не вытащили владелицу шубы.
По тем или иным причинам никто из женщин высажен не был. Пароход пошел дальше, в Эгейское море, и на один день остановился при острове Родос.
Кормили кадет на пароходе английскими мясными консервами, большей частью – холодными. Вместо хлеба давали куски грубого шоколада. Слитки его были размером вроде квадратного метра. При раздаче шоколад рубился топорами на полу, и при этом куски его разлетались во все стороны. Кадеты научились ловить их в воздухе. При еде шоколад неприятно хрустел на зубах, кто говорил – от сахару, а кто – от грязи на полу.
После Родоса сильно качало. Показался остров Кипр. Пароход остановился далеко от берега, простоял два дня, а затем причалил к пристани в Фамагусте. Все было приготовлено к высадке, но приказания не последовало. На пароходе кончалась питьевая вода, вместо нее в Фамагусте приняли апельсины, величиной почти с арбуз. Каждый получал потом по пол-апельсина в день. Ночью «Саратов» ушел дальше.
Появилось несколько случаев заболевания тифом. Больных поместили в отдельную каюту и оставили почти без ухода, может быть, по неимению медицинского персонала. Ухаживать за ними назначались кадеты, перенесшие тиф раньше. Вообще же многие кадеты тоже были полубольными от английской пищи, качки и недостатка сна. Среди тюков в трюме никто не мог порядком выспаться, а если кто располагался на ночлег на верхней палубе, то рано утром, при уборке палубы, его нечаянно или в шутку обливали водой. Лежать днем начальство не разрешало.
Движение парохода на юго-запад давало понять, что мы идем в Африку. Действительно, дня через два показалась земля и стал вырастать город и порт: Александрия в Египте.