Госсмех. Сталинизм и комическое
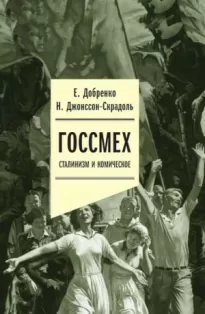
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Конечно, далеко не все частушечницы представляли себя в образе забитых, послушных дочерей и сестер, оставшихся позади. Много было новых женщин, которые наравне с мужчинами участвовали в новом социалистическом строительстве, неотъемлемой частью которого было, если судить по частушкам, ощущение радости.
Советские граждане воспитывались в сознании того, что с приходом советской власти понятие работы как бремени ушло в небытие, и на смену ему пришло понятие труда как синонима свободной самореализации на благо всех, соответствующее истинным потребностям граждан новой страны. Однако, судя по многочисленным частушкам на тему социалистического труда в колхозах, зачастую в труде как таковом необходимости как раз и не было; ощущение счастья и благоденствия наступало от самого факта существования новой организации быта, поистине чудесным образом:
Как бы не было тумана,
Не упала бы роса.
Если б не было колхозов,
Не росли бы чудеса.
У колхоза, у колхоза
Все, как есть, сбывается,
У колхоза счастье возом
Так и поднимается.
Мы в колхоз вступить решили, —
С старых рельс на новые.
Про МТС нам говорили,
Ходим все веселые.
Мир, в котором существование колхозов обеспечивает «рост чудес», где «все, как есть, сбывается» и где степень счастья измеряется «возом», — мир сказочный в той же мере, в какой мир советских пословиц «лозунговый». В этом факте нет ничего удивительного — на ключевую роль сказочного восприятия реальности в сталинизме было неоднократно указано как исследователями, так и самими акторами, вовлеченными в создание сталинских языковых практик. Последние, правда, обращались к размышлениям о природе современного им дискурса часто при обстоятельствах, мало вдохновлявших на академический анализ, как, например, впавший в немилость Николай Бухарин, в отчаянии назвавший партийные органы, с легкостью обращающие друзей партии в ее врагов, «чудодейственными»[888].
«Чудодейственность» партийной политики и колхозных реалий основана на одном и том же механизме производства значений, который Луи Марен мог бы, наверное, назвать утопическим, если утопию понимать как «своего рода принцип, который в определенный момент своего собственного дискурса вдруг открывает, или прерывает, или принижает порядок [создания] образа, порядок репрезентации»[889]. Такое определение указывает на характеристику утопических конструкций, которая часто упускается из виду при их теоретическом анализе: утопические образы в любом своем выражении не просто создают альтернативную реальность, но изменяют саму природу логических связей между элементами репрезентации. Так, в той советской реальности, которая была отображена в частушках и колхозных поэмах, комедиях и мюзиклах, процесс работы зачастую попросту выпадал из логической цепочки между осознанием нужды и ее удовлетворением. Само время смещалось; факт создания колхоза оказывался достаточным для того, чтобы возникло ощущение безграничного счастья и радости. Андрей Синявский заметил, что советский язык в основе своей имеет религиозную веру в то, что настойчиво, многократно называемый объект становится реальностью[890]. Однако, помимо религиозно-эвокативной риторики, есть еще один тип утопической организации языка и восприятия окружающих явлений, где максимально сжатое и бесконечно повторяемое производство значений заменяет собой производство материальных реалий. Речь идет об игре[891].
Жак Эрманн подверг критике классическую работу Йохана Хейзинги об игровых практиках за пренебрежение экономическим аспектом игры. Сам Эрманн видел в игре особое выражение экономических отношений; по его мнению, игра — это производство free expenditure[892]. По другому поводу одним из авторов этой книги была проанализирована философия не-работы как карнавальная экономика раннесоветского культурного пространства в изображении Андрея Платонова[893]; другой автор обращает внимание на непрекращающееся пение и веселье как основные занятия героев ряда сталинских кинокомедий и замечает, что в этом своеобразном универсуме сама игра является основой экономических отношений — если не единственным их выражением[894].
Однако убежденность в том, что «чудеса» сами «вырастут» при наличии колхозов, равно как и готовность петь и плясать, относясь к работе лишь как к условному обозначению общественного статуса, не означают отсутствие производительной деятельности. Просто деятельность эта коренным образом отличается от привычного создания ценностей и товаров: в сталинской реальности производятся не материальные или иные ценности, а чувства и значения. В частушках, подобных приведенным выше, этот принцип выражен особенно четко. Крайние звенья цепи «необходимость в чем-то / нехватка чего-то» и «наличие требуемого / удовлетворение потребностей» максимально приближены друг к другу: не только процесс труда теряет свое значение, но и само потребление благ. «Чудеса», вызванные из небытия колхозами, абсолютны: счастье возникает как моментальное и непосредственное следствие самого факта существования колхозов. Важность подобных текстов в том, что они снимают вопрос о явном противоречии между далеко не идеальными условиями жизни в реальности и лубочной картиной, столь любимой официальной пропагандой: если не только работа, но и само потребление не является необходимым условием удовлетворения потребностей и ощущения счастья, то любые факторы, затрудняющие или делающие невозможным это ощущение, либо попросту не имеют значения, либо само их упоминание является идеологически опасным. Смех как выражение счастья становится естественным элементом советской жизни[895]. Для того чтобы возникло благоденствие, не обязательно трудиться в поле — достаточно самого факта существования колхозов; для того чтобы все ходили «веселые», достаточно послушать про МТС; подобным же образом в параллельной колхозному раю реальности показательных процессов не обязательно выстраивать цепочку логически убедительных доказательств — достаточно самого факта существования обвиняемых.
Наполненные безграничным оптимизмом частушки могут быть прочитаны как примеры алогичности сталинского миропорядка, пренебрегающего последовательностью элементов цепочки «причина — следствие». При этом идеальный сталинский субъект не заметит ни логической невозможности, ни просто комизма смещения временных и причинно-следственных связей, которые присутствует во всех политически значимых текстах сталинизма, начиная с частушек о великих свершениях колхозов и кончая мастер-нарративами сталинской историографии.
Анализ пропаганды счастья сталинской эпохи позволяет предположить, что насквозь параноидальный (то есть продуцирующий собственную логику и сконцентрированный на воображаемой постоянной угрозе)[896] сталинский дискурс генерировал абсурд как балансирующий элемент производства эмоций и значений. Чем больше голодала страна, тем веселее были комедии, песни и частушки; чем более рьяно газеты требовали уничтожения ненавистных врагов, тем больше восславлялась советская родина как обитель радости и веселья. Поэтому к утверждению о том, что «беспросветное веселье колхозных фильмов Пырьева, романов Бабаевского или поэм Грибачева на фоне голодающей страны — продукт чистой эстетизации реальности, [чья] социальная функция <…> состоит в дереализации жизни, в ее идеологической сублимации, направленной на социальную амнезию»[897], можно добавить, что приемы дереализации и эстетизации на фоне голода приучают граждан к логике абсурда как основному смыслообразующему приему.
Учитывая особенности жанра частушек, не приходится удивляться тому, что зачастую в этих текстах упомянутая выше «непристойность власти» проявляется в образах с неприкрыто сексуальным оттенком:
Не спеши, мой дорогой,
В шахту я спущусь с тобой,
Будем уголек рубать,
По две нормы выполнять.
Бригадира полюбила
За дела серьезные.
Эту ночку обходила
С ним поля колхозные.
За сосновыми лесами
Закат розовый погас.
Нам с тобою, милый, нужно
Изучить противогаз.
Я любимой только свистну,
Она догадается:
На колхозную работу
Мигом собирается.
Выйду в поле до рассвета —
Нечего валяться.
Будем с миленьким своим
Мы соревноваться.
Если едят советские люди в обществе вождей, то работают они в обществе любимых, причем, судя по приведенным выше текстам, естественным проявлением любовного влечения было желание спуститься с любимым в шахту, пройти с ним ночью по полям, заняться социалистическим соревнованием, вместо того чтобы «валяться», или «изучать противогаз», насладившись предварительно романтической картиной розового заката. В этих случаях, как и в других рассмотренных выше примерах, можно допустить присутствие некоторого разрыва между декларируемой и скрытой тематикой текстов. Разрыв этот обусловлен тем, что польский исследователь малых жанров фольклора советской эпохи Войцех Хлебда назвал «своеобразной контаминацией» советской идеи более традиционной структурой или образностью текста. Хотя это замечание относилось к пословицам, к частушкам оно применимо в не меньшей мере. При небольшом смещении исходной точки интерпретации процитированных выше частушек их содержание меняется на прямо противоположное. Приглашение спуститься вместе в шахту или пройти ночью вместе по полям, обращенное к любимому, может быть прочитано и как кокетливый намек на занятия, далекие от установления трудовых рекордов, а идея укрепить близость с «милым» путем социалистического соревнования или изучения противогаза в темноте звучит как издевка над святой идеей социалистического труда. Эти одобренные сталинскими цензорами частушки одновременно указывают на два противоположных полюса значения: либо низкие эротические инстинкты обращаются в высокую энергию труда, либо же труд становится лишь фасадом для сокрытия плотских утех.
Связь между трудом и эротикой в советской идеологии, как и скрытая пропаганда возможности замены одного другим, неоднократно привлекала внимание исследователей[898]. В нашем контексте важно то, что легкая подмена одного вида деятельности другим выражает способность сталинского дискурса к продуцированию особого рода «скрытых означающих». Владение советским языком вообще, и языком сталинизма в частности, подразумевало способность указывать на явления без того, чтобы их называть. Причина табуирования множества тем могла быть любой, однако механизм их непрямого включения в официально одобренный язык был всегда схожим: каждое слово было цитатой и указанием на поведенческий код. Певец революции прославил этот принцип: «Мы говорим — партия, / Подразумеваем — Ленин». Частушечные тексты, однако, зачастую допускают более сложные смысловые конструкции, чем знаменитая синекдоха Маяковского и чем приведенные в первой части этой главы примеры пословиц и поговорок. Вышеприведенные примеры говорят «соцсоревнование», но подразумевают (неважно, насколько это соответствует авторскому намерению) недопустимую в советских условиях эротическую игру. Поскольку пространство сталинизма было «пространством ликования», труд, как и все дисциплинарные практики, должен был ассоциироваться с приятными ощущениями, и выработка соответствующих ассоциаций была важным инструментом в воспитании новых граждан. С другой стороны, присутствие эротических коннотаций в традиционных текстах, легко узнаваемых в созданных на их основе советских частушках, позволяет найти дискурсивные рамки для обозначения присутствия в новой жизни того, что нельзя было ни исключить из нее, ни признать открыто.





