Госсмех. Сталинизм и комическое
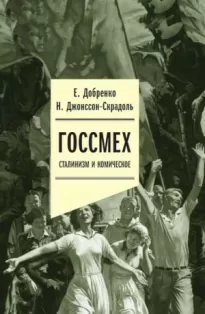
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
В середине 1950-х годов впервые в советской эстетике Юрий Борев представил перечень фундаментальных предпосылок остроумия: определенные нравственные идеалы, вне которых юмор превращается в цинизм, сальность, пошлость, скабрезность; диалектичность, живость ума, способного схватывать и заострять противоречия; критически развитый ум, соотносящий здравый смысл с заострением, без чего юмор вырождается в скепсис и нигилизм; развитое эстетическое чувство, чувство меры; ассоциативность ума, его склонность к богатым, разнообразным, неожиданным сопоставлениям, вырывающий явления из первичных связей[915].
Очевидно, что по всем этим параметрам обладание остроумием и способность воспринимать его не могут быть массовыми. Более того, они — с точностью до наоборот — маркируют массовое восприятие как таковое, в частности восприятие массового поверхностно приобщенного к культуре советского потребителя искусства, сознание которого утилитарно-предметно, неразвито, узко и бедно ассоциациями, а ум неповоротлив, медлителен, лишен критического отношения к окружающей реальности. Отсюда — его неспособность к восприятию остроумия.
В строившемся по лекалам этого сознания госсмехе смешное было не только лишено какой-либо рафинированности, но и по необходимости апеллировало к конкретной образности, свойственной инфантильному мышлению, вульгарному языку полугородской среды, примитивному тематическому регистру (грубые насмешки, пошлые шутки, эксплуатация гендерных и национальных стереотипов и т. п.), неразвитому вкусу и т. д. Крестьянское сознание конкретно и коллективно, и, принимая насмешку за шутку, способное лишь смеяться над кем-то/чем-то, оно не восприимчиво к юмору.
И в самом деле, нет ничего более далекого от сталинизма, чем юмор, о котором много и проницательно писал Милан Кундера, посвятивший этой теме роман «Шутка». Кундера называл юмор
божественной вспышкой, обнажающей мир в его нравственной двусмысленности и человека в его полной некомпетентности вершить суд над другими; юмор: опьянение относительностью всего присущего человеку; странное удовольствие, проистекающее из уверенности, что уверенности не существует[916].
Сталинизму была чужда двусмысленность, но свойственна абсолютная уверенность в своей компетентности и в праве вершить суд над всеми. Но одновременно перед нами поразительно точное определение сатиры — не признающей нравственной двусмысленности, осуждающей, полностью уверенной в незыблемости утверждаемых ею социальных норм.
Когда эта, в сущности, глубоко антисмеховая позиция оказывается в основании юмора, она неизбежно ведет к деградации смеха. Между тем именно к ней апеллировали советские «мастера комического». Один из них, Леонид Ленч, выступая на пленуме Союза писателей в феврале 1944 года, прямо ориентировал коллег на этот «горизонт ожидания»:
Юмористическая и сатирическая литература нашей эпохи, если она хочет развиваться и расти, должна быть массовой и органически народной литературой. Юморист, над произведением которого смеются полтора сноба, причем половинка приходится на долю его родной тетушки, такой юморист никому не нужен, и может идти спать. Читательская аудитория советского юмориста — миллионы[917].
Один из ведущих советских юмористов, вступивший в Союз писателей по рекомендации Зощенко, Ленч хорошо понимал природу «массового» смеха и параметры, в которых работал. После пафосного призыва писать для массовой советской аудитории Ленч рассказал коллегам о специфике одного из типов такого смеха — так называемого армейского юмора. Он поделился историей о том, как его, в числе других сатириков и юмористов,
вызвали в одно место и предложили подумать над созданием военного сатирического журнала. Мы учитывали: военный журнал, авторитет командира, субординация и т. д., и мы задали вопрос: «Над кем смеяться в военном журнале?» Нам говорят: можно смеяться, но не выше майора. Тогда кто-то задал вопрос: «А будет ли смешно?» И, кажется, Рыклин (гл. редактор «Крокодила». — Е. Д.) с места ответил: «Полковнику будет смешно»[918].
Стенограмма зафиксировала реакцию зала: «Дружный смех всех присутствующих». Советские «мастера комического» хорошо знали, какой юмор от них требовался, и производили его в товарных количествах.
Смех «не выше майора» — это, разумеется, предельный случай смеха, создающего иерархию (несмотря на то, что якобы призван разрушать ее). Однако речь идет не только об иерархии, но и о сословии: солдатский юмор характеризуется предельно примитивным репертуаром приемов (так называемые плоские и/или соленые шутки, скабрезности) и тем (сексуальные, натуралистически-телесные и бытовые). В стремлении к доступности советская культура тяготела к такому «тоталитарному юмору»[919], поскольку он был наиболее массовым[920].
Между тем, как точно заметил Александр Козинцев, «юмор — это отношение субъекта не к объекту, а к самому себе на другой стадии развития»[921]. Поскольку сталинский субъект был лишен исторической саморефлексии, он не знал юмора. Сталинизм симулировал его, создавая юмор, лишенный иронии, которая, в свою очередь, требует достаточно развитого воображения и высокого уровня самосознания, поскольку всегда направлена не столько на объект, сколько на сам субъект (самоирония). Эту особенность юмора остроумно сформулировал Зиновий Паперный:
Юмор, как друг, познается в беде. Если, например, человек покупает за 30 копеек лотерейный билет, выигрывает «Волгу» и заливается блаженным смехом — это еще не чувство юмора.
Но если у него вытащили 300 рублей и лотерейный билет, по которому он предполагал выиграть «Волгу», а он улыбается — это уже начало чувства юмора[922].
Советский юмор был юмором человека, выигравшего «Волгу» и заливавшегося блаженным смехом. Это была симуляция юмора — искусство, которым советские «мастера смеха» владели в совершенстве: реальный советский человек терял куда больше, чем 300 рублей и предполагаемую «Волгу» (над чем он мог смеяться только в антисоветских анекдотах).
Поскольку в сталинскую эпоху осмеяние даже частных негативных явлений советской действительности могло легко быть интерпретировано как посягательство на основы советского строя, в комедиях социальная направленность подменялась либо критикой конкретных негативных проявлений, либо обличением общечеловеческих пороков. Это, с одной стороны, вело к расцвету фельетона, тяготевшего к конкретности, фактажности и единичности, а потому, в отличие от сатиры, чуждого генерализации; с другой стороны, создавало условия для возрождения водевиля, основанного на наборе ходульных сюжетных ходов и персонажей-масок, проникнутого нравоучительностью и далекого от серьезных социальных вопросов.
Соответственно, изменился и характер комизма — злой смех сатиры сменился мягким безобидным доброжелательным юмором, легкой шутливостью, радостной интонацией, что отвечало социальному заказу 1930-х годов на усиление жизнеутверждающих мотивов, бодрую, мажорную тональность, светлые тона в изображении советской повседневности, ее «утепление» и «очеловечивание» нового типа героя — рядового строителя социализма. В репертуаре доминирует так называемая лирическая комедия («Дальняя дорога» Алексея Арбузова, 1936; «Глубокая провинция» Михаила Светлова, 1935), нередко сводившаяся к водевильному анекдоту, например о том, как молодой человек стесняется признаться в любви своей возлюбленной («Чудесный сплав» Владимира Киршона, 1933).
Былые аскетизм и самоограничение сменились атмосферой радости, веселья и жизненного изобилия, а действия стали разворачиваться в обстановке праздника, отдыха, пения, танцев, спортивных игр. Комедия превращалась в каскад реприз, каламбуров, розыгрышей и едва ли не эстрадных номеров, объединенных наспех сложенным сюжетным каркасом. Жизнь в этих пьесах настолько наполнилась «поэзией советской действительности», что персонажи утратили способность выражать переполнявшие их чувства прозой и заговорили стихами (как в пьесах Виктора Гусева). Песни теперь звучали едва ли не в каждой пьесе и завершали собой едва ли не каждую из них. Колхозная комедия стала заканчиваться только так. Вот концовки нескольких только украинских пьес:
«Фрося запевает песню, все весело подхватывают. Песня переходит в танец» («Весенний поток» З. Прокопенко);
«Незаметно нарастает песня. Ее подхватывают все присутствующие» («На большую землю» А. Хижняка);
«Ольга, Уралов и Параска запевают песню… Подхватывают песню колхозники» («Весна» И. Зарудного);
«Раскатисто, могуче звучит песня» («Чудодейственная сила» З. Мороза);
«Все идут к клубу. Звучит песня» («Комсомольская линия» Е. Кравченко);
«Наречный взмахнул рукой — и полилась знакомая песня» («Дальняя Елена» В. Суходольского)[923].
Чтобы не быть обвиненными в «очернительстве», авторы этих пьес, помещая героев в санатории или на природу, изолировали их от социальных и исторических конфликтов. В отсутствие социальных противоречий общественные отношения персонажей могли обнаружить драматизм только в каких-то исключительных обстоятельствах, так что для развития драматического действия все время требовались какие-то экстраординарные события — аварии во льдах, стихийные бедствия, смертельные болезни и т. п.
Советская комедия рождалась одновременно с теорией «положительной сатиры», и это не могло не отразиться на ней в силу доминирующего положения самой сатиры в госсмехе. Сразу после Первого съезда писателей, в октябре 1934 года ведущий советский театральный критик Ю. Юзовский выступил в «Литературном критике» с серией статей «Освобожденный Прометей», где высказался о совершенно новой эстетике, которую несет соцреализм. Речь шла и о комедии[924]. Юзовский утверждал, что хотя, борясь с пережитками капитализма, «драматург может дать яркий тип мещанина, пошляка, эгоиста, для того, чтобы обрушить на него негодование зрителя», мы тем не менее
представляем себе героя, которого мы встречаем каждый день, который «наш», искренно желает победы социализма и каждый раз доказывает это в своей практике, но в нем живут эти пережитки. И вот вся тонкость, так сказать деликатность и с точки зрения работы над образом особая прелесть заключается в том, чтобы, отрицая его, утверждать, чтобы, относясь к нему хорошо, положительно, дружески, в то же время выразить ему свое недовольство, несогласие и прямое порицание, а быть может, наказать его[925].
Поскольку сатира для этой цели не подходила, поскольку негативное не могло быть типическим и, соответственно, не могло порождать сатирические типы, постольку возможным оставалось осмеяние только отдельных негативных черт персонажей и явлений при в целом положительном к ним отношении. Если эти люди и имели какие-то недостатки, то «сущность этих недостатков такова, что борьба с ними требует не гневного, сатирического разоблачения, а лишь иронии, насмешки»[926]. Параметры «веселой комедии» были предопределены: речь шла о «комедии, которая не действует убийственным смехом, смехом, который уничтожает»[927].





