Госсмех. Сталинизм и комическое
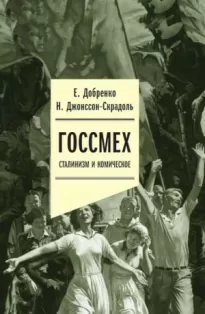
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Весной дело было. Он ведь, Гришка-то. Работает в колхозе только весной, когда сеют, да осенью, когда хлеб на токах. Ясно дело, живет так, — Евсеич сделал выразительный жест — сгреб ладонью воздух, сжал кулак и сунул в карман. — Вот как он живет, этот Гришка Хват: хвать себе, a там хоть трын-трава.
— Ну а при чем здесь порты?
— Вот и стряслось с ним. Назначили его, значит, на тракторную сеялку вторым севаком — семена засыпать, диски чистить, маркер поднимать. Никогда Гришка не упустит, чтобы не хапнуть, и тут, ясно, не утерпел: насыпал пшеницы в кулек, килограмма полтора, и привязал пояском под ватные порты, сбоку. Да… дело к вечеру было, последний ход ехали. Подъехали к табору, а Гришка-то — прыг с сеялки! Пуговка — лоп! — и оторвись. Да случись тут кусок пласта под ногами, он и споткнулся. Брык! — голым задом к табору. А кулек сбоку мотается. Мамушки мои, срамота какая! Бабы накинулись гуртом: «Снимай порты! Что у тебя там привязано?» А он задрал нос, одной рукой штаны держит, а другой — кулаком трясет: «Я вам покажу, как над больным человеком насмехаться! Грызь, — говорит, — у меня табаком обвязана». А и никакой грызи у него сроду и не было… Вот и смеются меж собой теперь колхозники: «А грызь-то у Гришки пшеничная!» Дела, право слово!
Подобный юмор обладал сильным воздействием: он настолько снижал происходящее, что ни о каком серьезном отношении читателя к описываемому уже не могло быть и речи.
После выхода второго тома «Поднятой целины» (1959), где Щукаря стало еще больше, даже приближенные к Шолохову писатели и критики заговорили о том, что «словоохотливости и чудачествам милого дедушки Щукаря надобно было бы сделать известный „укорот“»[1071], что «во второй книге романа дед Щукарь довольно длительное время продолжает инерцию прежнего художественного существования. Иногда и просто повторяется <…> Иногда его балагурство утрачивает комичную серьезность, которая ему была свойственна, звучит „невпопад“ со сквозным действием»[1072], что «иногда трогательное в своей беспомощности, смешно-невпопадное балагурство Щукаря приобретает постепенно в романе самодовлеющее значение, а временами приходит в противоречие с его основным пафосом»[1073]. Все, однако, сходились на том, что в Щукаре просматривается «влюбленность автора в своего героя»[1074].
Но была здесь не просто «влюбленность». О чем никто из шолоховедов не говорил, так это о том, что общественное поведение самого писателя становилось все более похожим на поведение его героя. Едва ли не каждое выступление Шолохова с трибуны сопровождалось отмеченными Гладковым плоским юмором, зубоскальством, балаганным зоильством и, как следствие, скандалом. Можно поэтому сказать, что в Щукаре были откровенно автобиографические черты.
Читатель должен был испытывать симпатию к Щукарю. Но как ни старались шолоховеды вызвать сочувствие к герою, вызывал он только смех. Дело в том, что народность Шолохова оставалась безжалостной и глубоко антидемократичной. Поэтому он сделал Щукаря ни на что не годным пустомелей. Любишкин прямо говорит: «Куда я того же деда Щукаря дену? Его, чорта, балабона, на бахчу становить в неподвижность замест чучела грачей пужать, а вы мне его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана мать! Куда он гож?» Хотя критики пытались объяснить, что это «годы бесконечных жизненных неудач — то, что в быту называется „невезением“, — все это и сделало из Щукаря никудышного работника»[1075] (не наоборот!), читатель не испытывал к нему жалости.
Тем более показательно, как этот глубоко антидемократический по своим политическим импликациям персонаж апроприировался советской эстетикой. В книге «О трагическом» (!) Юрий Борев посвятил Щукарю несколько пронзительных страниц. Логика интерпретации этого героя такова: «Какое несчастье может быть горше для безлошадного крестьянского двора, чем потеря долгожданной лошади, на покупку которой откладывались не один месяц последние гроши!» А между тем Шолохов смеется над Щукарем и его бедами. «Почему художник, такой чуткий к самым тонким оттенкам духовной жизни своих героев, столь „бесчувствен“ и „бессердечен“ к несчастьям Щукаря», этого «маленького человека, которому всегда сочувствовало мировое искусство и над которым оно никогда не позволяло себе так звонко, радостно и беспощадно смеяться. В чем тут дело?» — задается вопросом Борев. Оказывается, дело в том, что
шолоховский смех над Щукарем есть смех расставания с изжившим себя прошлым, он есть прощание с образом маленького человека. Здесь литература, смеясь, расстается со своим прошлым, ибо маленький человек отныне есть прошлое и литературы и жизни. Ведь те несчастья, которые сыплются на Щукаря, отныне исторически не неизбежны, они исторически преодолены. Октябрьская революция и коллективизация вывели народ из того состояния, в котором его бедствия и несчастья были закономерны, были необходимой составной частью исторического процесса, а сама человеческая жизнь была своеобразным горючим, за счет которого двигалась история. А раз так, то есть поскольку все это уже исторически преодолено, поскольку народ нашел выход из заколдованного круга бед и несчастий, поскольку он стал хозяином своей судьбы, постольку маленький человек становится анахронизмом; почему бы в этом случае не посмеяться над теперь уже личными (а не всемирно-историческими) мелкими неудачами маленького человека, не грозящими ни гибелью, ни особо тяжкими последствиями ни самому этому человеку, ни, тем более, народу[1076].
Столь неожиданный поворот превращал Щукаря в «своеобразного „последнего из могикан“ среди образов маленьких людей в русской литературе». И трансформировал трагедию в… комедию:
Если когда-то потеря шинели Акакием Акакиевичем была почти трагедией, то потеря лошади Щукарем — всего лишь комедия. В этом проявляется повышение исторической и общественной ценности личности в сравнении с окружающим ее миром материальных ценностей. Начав с трагедии маленького человека, русская литература кончила эту тему, показав комедию деда Щукаря. Этот образ является и в идейно-художественном, и в жизненно-историческом отношениях логическим завершением и целой галереи образов, и большой гражданской темы русской литературы (всякая попытка воскресить образ маленького человека в его прежнем качестве выглядела бы как идейно-художественный просчет, подобный просчету того писателя, который после сервантевского Дон-Кихота попытался бы написать рыцарский роман с центральным образом странствующего гидальго). Дед Щукарь — своеобразное комическое завершение трагической темы маленького человека и, быть может, даже не осознаваемая автором пародия на этот образ в русской литературе[1077].
Как будто предвидя такое прочтение своего героя, Шолохов вложил в его уста соответствующий текст: «Меня сызмальства кто только не забижал! И гуси, и бугаи, и кобели, и чего только со мной не случалось. Даже до того дошло, что дитя подкинули…» С одной стороны, эта жалоба должна вызвать сострадание к «маленькому человеку». С другой — она сама похожа на издевку. В сознании читателя сразу вставали сцены, одна смешнее другой. Когда даже жалоба вызывает смех, ясно, что автор сознательно подрывал подобную интерпретацию. Но когда идеологическое задание того требовало, авторская интенция не могла служить препятствием.
С той же легкостью, с какой советская эстетика превращала трагедию в комедию, она обращала балаганного деда в «маленького человека», а антидемократизм в соцреалистическую народность. Превращая трагедию в комедию, советская критика следовала природе жанра: колхозная комедия была разукрашенной ширмой трагедии коллективизации.
Концентрированным выражением этой подмены и стали колхозные шуты, и первый среди них — дед Щукарь, ставший по-настоящему знаковой фигурой поначалу колхозного, а затем и производственного романа (достаточно вспомнить «Журбиных» Вс. Кочетова). Щукари стали обязательным атрибутом любого советского романа. Это либо кадровые рабочие, которые обращаются на ты к министру, либо деревенские старики, которым так хорошо зажилось при советской власти, что «не хочется умирать».
В романе Григория Медынского «Марья» (1949) Щукаря зовут Фомич. Этот неунывающий постаревший Теркин демонстрирует образцы «солдатского юмора», бахвалясь своими заслугами в Первую мировую войну:
— Я-то? — даже удивился Фомич. — Да я в тую германскую три года отдежурил. Как сейчас помню: командир говорит: «Вот, ребята, немцы! В атаку!» Побежали в атаку. А немец как полоснет из пулемета! Тут кричат: «Ложись!» А я смотрю: куда ложиться? Болото! Вымажешься, тебя потом ребята засмеют. Побегу дальше. Перемахнул через болото, выбежал на горку: кругом в пулях. Думаю: что ж я тут на юру буду лежать? Убьют! Побегу дальше! Оглянулся — и ребята бегут. Так и добежали. Я потом за это Егория получил. А ты говоришь!..[1078]
Появление в романе еще более старого старика должно «омолодить» Фомича:
— Сколько же тебе лет, дедушка Кондрат? — спросила Марья.
— Сколько лет-то? А кто их знает?.. Мне при царе еще было шестьдесят али не было? Должно, было. А теперь я уже и не знаю. Со счета сбился (304).
Между ним и Фомичом происходят такие содержательные разговоры:
И пошли разговоры о земле, о труде, о навозе, какие годы выдавались урожайные, какие — неурожайные, кто, где и что сеял, когда пробороновал и когда не пробороновал и что из этого получилось.
— Год так, а год эдак. Не угадаешь.
— Год годом, а хлеборобы тоже всякие бывали. Сеяли хлеб, а посмотришь — одни глазки виднеются, синенькие да голубенькие.
— Обработка — что говорить? Самое главное тут — обработка.
— Обработка — обработкой, и дождь много важит. Дождь будет — родит, а дождя не будет — погодит.
— Что дождь? Тут по науке нужно, — вступает в разговор Фомич. — Раньше — что? Раньше — темные люди были, вслепую сеяли. Рожь да рожь! А оно видишь — и такой сорт есть и такой. Один — полегаемый, другой — неполегаемый. И структура…
— Что за структура, скажи на милость? — спрашивает дед Кондрат. — Раньше сеяли, никакой структуры не знали.
— Раньше, раньше!.. А теперь нельзя. Без структуры по нынешнему времени никак нельзя, — важно отвечает Фомич (305).
Бесконечные рассказы Фомича о современной науке — по-детски наивные рассуждения о том, что такое атом или структура посевов, — пронизаны, как писала критика, «ласковым юмором».
Лацци возникли в комедии дель арте как вставные буффонные сценки, трюки комических персонажей в которых не играли никакой роли в развитии сюжета, но лишь вызывали смех у публики. Со временем, однако, сами эти буффонные персонажи стали называться лацци. Дед Щукарь — образцовый лацци советской комедии. Его политическая нагрузка намного превышает степень его сюжетной функциональности. Однако в конце концов этот персонаж эмансипируется. Процесс этой эмансипации можно наблюдать в колхозных поэмах, непременно содержащих своих щукарей, которые живут самостоятельной жизнью в разных стихотворениях. Так, помимо удостоенных Сталинскими премиями поэм «Колхоз „Большевик“» (1947) и «Весна в „Победе“» (1948), содержавших непременных «дедов», Николай Грибачев написал в 1948 году сборник стихотворений о «буднях колхозной жизни», где была представлена целая галерея колхозных лацци, вышедших из его поэм и заживших отдельной жизнью.





