Госсмех. Сталинизм и комическое
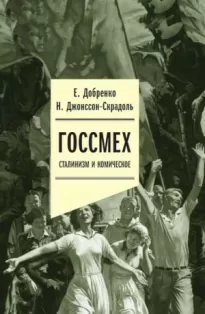
- Автор: Евгений Добренко
- Жанр: Культурология / Искусствоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Госсмех. Сталинизм и комическое"
Дело, таким образом, не в почестях и морали, но в страхе. Страху этому подвержены номенклатурные персонажи. Нельзя представить себе «простого человека», «боящегося» системы. Не потому, что этому герою в своей идеальности нечего бояться, но потому, что он этой системе не принадлежит. Она не страшна ему, поскольку не может причинить ему вреда: она сама — «плоть от плоти народа».
Иное дело — номенклатурный герой. История Бекетова заставляет задуматься над дальнейшей судьбой этих сатирических персонажей. Соцреализм дает множество примеров «перековки человеческого материала». Катерина Кларк даже утверждает, что «перековка» (переход от стихийности к сознательности) составляет самую суть соцреализма. Однако перековываются здесь отнюдь не все. Перековка — высокая честь. Ее удостаиваются в основном «массы». Иногда — даже прямые враги советской власти, например белогвардейцы (достаточно упомянуть «Хождение по мукам» или «Тихий Дон»). Но никогда — представители самогó «нового класса» — падшие представители номенклатуры. Никто из этих перерожденцев не перевоспитывается. Ни Горлохватские, ни Лопоуховы, ни Бекетовы, ни Помпеевы будущего в этих пьесах не имеют. К ним не применимо самое понятие перековки. Они неисправимы.
И все же стоит задуматься над причиной отсутствия внятного ответа на вопрос о том, что же происходит с этими «кадрами» после того, как опускается занавес. Ведь зритель этих пьес застает их в последних сценах в состоянии растерянности, паники, иногда — истерики. Здесь в полной мере действовала «кадровая логика», сформулированная когда-то Кировым:
У нас в большевистской практике никогда не было слишком гладеньких отношений. Мы умеем задирать себя против шерсти <…> Надо по-честному, по-большевистски, прямо глядя в товарищеские, коммунистические очи, сказать: «Ты, милый человек, запоролся, запутался. Если ты сам не поднимешься, я тебе помогу. Если нельзя за руку поднять, за волосы подниму. Я сделаю все, чтобы тебя исправить, но если ты, милый человек, не исправишься, то пеняй на себя, тебе придется посторониться»[702].
Последнее — «придется посторониться» — является самым интригующим в этой драме. «Поднятие за волосы» после 1937 года вышло из моды. Теперь требовалось перестать «амнистировать» проштрафившихся номенклатурных персонажей. В театральной критике из статьи в статью теперь ходит цитата из выступления 6 ноября 1949 года главного партийного «кадровика» Георгия Маленкова о нерадивых номенклатурных «кадрах»:
Наша партия учит, что надо честно признавать свои ошибки для того, чтобы быстрее исправлять их и впредь не повторять их. Но имеются горе-работники, которые усвоили только одну часть этого указания партии. Они непрерывно допускают ошибки в своей работе, признают их и затем со спокойной совестью делают их вновь. Не пора ли для пользы дела признать, что такие плодовитые на ошибки, незадачливые руководители являются тормозом для нашего движения вперед?[703]
Низвергнутые ныне начальники всегда в прошлом были вполне на своем месте. Это, в конце концов, объясняет сам факт их начальственного положения. Но система не предполагает вторичной переработки этого «человеческого материала». Неясно, что делать с этими персонажами. Можно облагородить их прошлое, но невозможно придумать для них будущее. Не подлежащие перековке, они отправляются в небытие.
Пьеса знаменитого фельетониста «Правды» Семена Нариньяни «Аноним» появилась в 1953 году как ответ на запрос на Гоголей и Щедриных. Нариньяни учел «уроки Бекетова»: его главный сатирический герой не только не номенклатурщик, но «самый обыкновенный, такой как все» работник. Не в научном институте, не на заводе. На этот раз дело происходит в архитектурной мастерской, где работают муж и жена Кравченко. Она — творческий работник, на которую муж свалил все домашние дела, поскольку «у каждого мужчины свои слабости. Один пишет стихи, другой увлекается женщинами, а я, Аннушка, играю в преферанс. Ну не вешать же меня за это безобидное увлечение». Жена недовольна: «Люди вслух, не стесняясь, называют тебя обывателем». Но больше всех недовольна работой Кравченко редактор стенгазеты Галина Воронова, обвиняющая его в непрофессионализме и требующая его увольнения.
За самой Вороновой тянется сплетня о том, что она якобы спланировала клуб с краденым фасадом. Работу выдвинули на премию, и тут во все инстанции пошли анонимные письма. Комиссии ездят в мастерскую одна за другой. Но обвинения не только не подтвердились, но сам жертва «кражи» заступился за Воронову. Тем не менее «гнусная сплетня» продолжает жить, а Кравченко утверждает, что «нет дыма без огня». Звонят из Союза архитекторов и спрашивают: «Это какая Воронова? Не та ли, что украла фасад? Работникам союза известно, что это вздор, ложь и тем не менее дурная слава уже пошла гулять. В выводах комиссии Стройтреста обо всем этом сказано». Но в очередной анонимке «заявитель дезавуировал выводы комиссии Стройтреста».
«Чтобы заставить замолчать клеветника и не давать Галине Николаевне повода для обиды», начальство архитектурной мастерской решает отправить ее в отпуск. В результате останавливается проектирование стоквартирного жилого дома для ткачей. Но поток анонимных писем не иссякает. Письмо получает даже жена начальника мастерской, где ее предупреждают о «подозрительной дружбе» ее мужа с Вороновой (прямо-таки водевильная глупость анонимных писем, которым никто верить не может, просто поражает).
А между тем Воронову покидает жених, работающий с ней в мастерской, поскольку думает, что с ней «опасно» иметь дело. Сама Воронова страдает от того, что от нее «отвернулись товарищи», а начальник «испугался кляузников» и «лишил ее своего доверия, послав в унизительный отпуск». Обстановка накаляется. Проверка по очередной анонимке завершается тем же выводом, что и все предыдущие: «все обвинения признаны клеветническими». Но еще не уехала комиссия облисполкома, как появляется новая. За ней — следующая, из ВЦСПС по новой жалобе. Представитель первой комиссии встречает новых командировочных с иронией:
Мы такие же горемыки, как и вы. Я приехал сюда по аналогичной жалобе из облисполкома, товарищ Иванов — из Стройтреста, товарищ Сидоров — из министерства, товарищ Лебедев — из республиканской прокуратуры, а товарищ Пономарев — из Архстройконтроля.
Ситуация приобретает вполне абсурдные формы. Однако перед нами не бюрократический фарс. Объектом сатиры является вовсе не бюрократия, но сам аноним. Что же касается бюрократии, то она представлена в пьесе во вполне пристойном свете. На вопрос начальника мастерской к очередному инспектору, признавшему жалобу клеветнической: «Так какого дьявола вы ехали из области сюда, трепали нам нервы?..», тот отвечает:
Ваше возмущение я понимаю. Вообще анонимные письма расследоваться не должны. Раз человек побоялся подписать свое имя, то к такому человеку у нас не может быть ни уважения, ни доверия… Это теоретически. А в жизни получается по-другому. Всякий раз, как только мы получаем жалобу без подписи, каждого из нас начинает преследовать одна и та же мысль. А может, нам прислал жалобу не прохвост, а человек честный, но трусоватый.
Словом, бюрократия работает, исходя из презумпции порядочности. Более того, действия системы отражают самую природу советского общества: «Хорошо то, что в нашей стране любой человек может принести свою жалобу в самую высокую инстанцию и к этой жалобе внимательно отнесутся. Вот кто-то из вас, сидящих здесь, поднял сигнал бедствия, и все, кто услышал этот сигнал, поспешили к нему на помощь», — говорит представитель ВЦСПС. И на упрек в излишней доверчивости добавляет:
Беда не в том, что ВЦСПС проявляет доверие к поступающим жалобам. Беда, когда нашу доверчивость пытаются использовать во зло всякие прохвосты. Так неужели ВЦСПС должен из-за каких-то прохвостов изменить доброму отношению к письмам трудящихся! Вряд ли вы этого хотите.
Такой вот парадокс народолюбия системы. Однако добрые намерения чиновников оказываются бесполезными.
И только входящий в очередную комиссию представитель прокуратуры к концу пьесы задается вопросом, который на протяжении действия никому странным образом не приходит в голову: «Если мы все пришли к выводу, что наш заявитель клеветник, давайте хоть обезвредим его, установим, кто он». Даже когда этот вопрос поставлен, не все понимают, зачем это нужно: «Хорошо, мы установим эту личность, а дальше что?» И тут оказывается, что советская юридическая система чрезвычайно либеральна в отношении клеветника-анонима, если никаких реальных последствий его непубличных жалоб для его жертвы не наступило. Вскрывая несовершенство в целом прекрасной системы, члены разных комиссий, сами того не ведая, выполняют функции… сатириков, задача которых состоит в укреплении советского строя, которому, как следует из пьесы, вредит излишний либерализм.
Здесь мы подходим к кульминации: на одном из конвертов, отправленных в одну из инстанций, впервые оказался обратный адрес. Это был адрес Кравченко. И тут выясняется, что десятилетний сын, которого Кравченко попросил отнести письмо на вокзал и бросить там в почтовый ящик, увидел, что на конверте отсутствует обратный адрес, решил, что поскольку адреса нет, из ВЦСПС не смогут ответить, и сам написал адрес на конверте. Гневу находящихся на сцене нет предела: «…он оказался не только обывателем, но и подлецом», «…а я сидел рядом с ним и ничего не подозревал. Я думал, клеветники какие-то не такие, а он, оказывается, самый обыкновенный, такой, как все», «Нет, он не такой, как все. Этот человек с двойным дном»… На призывы отдать его под суд Кравченко отвечает, что судить его не за что: «А за что? За то, что я жалобу написал? Это что, разве не дозволено в нашей стране?»
Петров. Вы не путайте тут, что в нашей стране дозволено, а что нет. Писать жалобы — пожалуйста, пишите. Но клеветать на честных людей, простите, не разрешим.
Леля. Да что с ним разговаривать! Под суд его, да и в тюрьму…
Алексей Дмитриевич. Ишь, какая прыткая, в тюрьму. А по какому такому закону в тюрьму? <…> вам и товарищ прокурор подтвердит! В Уголовном кодексе нет такой статьи, чтобы меня в тюрьму сажать.
Леля. Ну и что ж, что нет, а мы попросим правительство, чтобы такая статья была. Правительство-то наше, советское.
Петров. Правильно. Чтобы суд не только штрафовал клеветников, но сажал бы их в тюрьму.
Глазов. А ну, товарищи, кто за это предложение — поднимите руку!
Леля. Смотри, единогласно.
Этим обращением к залу, апелляцией к прямой демократии и завершается пьеса, главным посылом которой является криминализация «клеветы».
Практики доносительства сложились в СССР в 1920-е годы, а в формативном для сталинизма 1937 году были освящены высшим авторитетом — Сталин заявил тогда, что надо больше «сигнализировать» и «посылать письма» в вышестоящие инстанции: «Каждый член партии, честный беспартийный, гражданин СССР не только имеет право, но обязан о недостатках, которые он замечает, сообщать. Если будет правда хотя бы на пять процентов, то и это хлеб»[704]. Тема, однако, проходит через всю советскую сатиру, буквально наполненную доносчиками, злобными клеветниками и кляузниками-анонимами. Интересно, что к концу этих сюжетов мы непременно встречаемся либо с «человеком в форме НКВД», либо с партийным контролером, либо с прокурором, либо с милиционером. Стоит заметить, что создававшая негативный образ того, кто вчера еще был вполне привечаем и поощряем, советская сатира постоянно одергивалась критикой. Вне зависимости от того, был ли клеветник номенклатурным работником (как Бекетов) или мелким чиновником (как Кравченко), фигура эта вызывала неудовольствие надзирающих за литературой чиновников.





